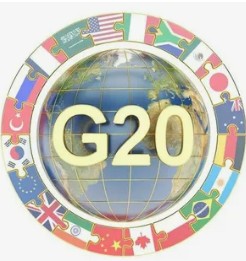Станислав Смагин, политолог
Визит Ангелы Меркель в Сербию и Албанию является одним из последних значимых международных актов в ее канцлерской карьере, затянувшейся более чем на полтора десятилетия. Искать в этом глубокий смысл и символизм едва ли приходится – так называемые Западные Балканы не входили в число важнейших приоритетов фрау канцлер, а поначалу и вовсе были на периферии внимания. Тем не менее, сам по себе этот визит вполне значим, особенно как начало некоего нового отрезка, а не только завершение предыдущего.
Отметим, однако, пару важных вех этого самого предыдущего отрезка, сформировавших фон и тон балканской политики Берлина и, в известной степени, Брюсселя. Германская дипломатия была семь лет назад инициатором создания формата «ЕС -Западные Балканы», с одной стороны, вроде бы призванного облегчить и снабдить новыми импульсами процесс евроинтеграции проблемного региона, а с другой – растягивавшего его до бесконечности. Приведем уже использованное как-то применительно к этой теме: стремление «старой» Европы держать Балканы под опекой и политико-экономическим контролем без решающих прямых юридических обязательств сродни гражданскому браку, где менее стремящийся к штампу в паспорте партнер уговаривает более стремящегося, что «штамп ведь ничего не изменит».
Сербия и Черногория, по крайней мере, смогли обрести статус участников интеграционных переговоров, не особо, впрочем, прогрессирующих – перспективы их успешного завершения хотя бы к 2025 году большинство участников воспринимает скептически. А вот получение аналогичного статуса Албанией и (Северной) Македонией в последние годы наталкивалось на вето со стороны Франции, Дании, Нидерландов, Болгарии. При всей показной озабоченности немцев происходящим, вряд ли они расстроились так уж катастрофически.
Вторая веха, тесно связанная с первой – принятие Берлином в определенный момент жесткой позиции относительно недопустимости сербско-косовского урегулирования через компромиссный обмен территориями. Выглядит несколько нелогично, учитывая активнейшую роль ФРГ в разрушении Югославии через поддержку хорватского и словенского сепаратизма, а затем столь же активную роль в югославской драме-1999. Но нелогичность объяснима: познакомившись поближе со всеми прелестями и деталями косовской квазигосударственности, «староевропейцы» и конкретно немцы решили держать ее от себя как можно дальше и как можно дольше. Любыми способами, в том числе и неявным латентным препятствованием достижения договоренности с Белградом, без чего невозможно вступление в ЕС.
Впрочем, и «основную» Албанию там не то чтобы ждут с оркестром и распростертыми объятиями. Опять-таки, чуть нелогично на фоне воинственного мультикультурализма и буквально заманивания переселенческих легионов из Африки и Ближнего Востока. Похоже, косоваров побаиваются больше, чем простодушных смуглых громил и дебоширов.
В эту «корзину» факторов добавился сейчас еще один. США после ухода из Афганистана на мировой арене несколько ослабли – в первую очередь не «мускульно», а морально-психологически, и далеко не так, как хотелось бы миллиардам искренних нелюбителей «империи добра». Но и такое ослабление создает некоторый вакуум силы в регионах повышенного американского присутствия, в том числе на Балканах. Одновременно Вашингтон стремится компенсировать снижение плотности и качества прямых действий усилением непрямых. В самом Афганистане это переход от положения военного оккупанта к формуле «разделяй и властвуй», со стравливанием и модерированием отношений разных внутриафганских фракций и разных заинтересованных в этой стране внешних игроков. На Балканах – подселение как раз таки афганских беженцев на преимущественно мусульманские или смешанные по составу населения территория для создания дополнительного напряжения. Европа вынуждена реагировать на проявившиеся вызовы, как переформатирование/дозирование прямых американских действий, так и на активизацию непрямых.
Перечисленный клубок проблем и определял суть визита Меркель в Сербию, а затем в Албанию, где она заодно встретилась с лидерами Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово. В Белграде президент Вучич дал свою оценку косовскому и евроинтеграционному вопросу заодно: «Сербия знает, что является условием вхождения в Евросоюз. И мы в курсе, что не станем членом ЕС, пока не решим косовскую проблему. Мы готовы разговаривать с албанцами о компромиссном решении, но прежде нам необходимо наладить сотрудничество и обеспечить свободный товарооборот. Мы осознаем, что это для нас непростой вопрос. Меркель знает о нашей позиции и понимает её, хотя не всегда с ней соглашалась, а такое было нередко. Я против замороженного конфликта и считаю, что эту проблему должно решить наше поколение. Но это должно быть компромиссное, а не унизительное для Сербии решение».
Гостья в развитие темы сказала, что ЕС должен выработать единую позицию по Косово (как известно, ряд членов Союза по разным причинам не признаю косовскую независимость – Кипр, Греция, Испания, Словакия, Румыния), процесс переговоров далек от завешения и многие вопросы еще не решены. Понимать данное заявление можно двояко. С одной стороны, очевиден намек на дальнейшее затягивание эпопеи. Сербия в том случае окажется жертвой Запада уже второй раз: сначала Запад как целостность отторг Косово, а теперь часть Запада, видя последствия, не хочет окончательного решения ни в какую сторону, опять затрудняя сербам жизнь. С другой…конечно, сейчас представить себе восстановление единой государственности Сербии и Косово крайне затруднительно, но в долгосрочной перспективе для определенных европейских кругов то могло бы стать приемлемым решением.
В Сербии, а затем в Албании Меркель сделала еще пару многозначительных заявлений – о балканской евроинтеграции в целом. «Знаю, что есть представление о том, что процесс идет медленно и европейская сторона придумывает новые требования. Но мы видим ряд результатов и прогресс. Страны — члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти государства были приняты в ЕС», - заявила канцлер в Белграде, тут же добавив, что балканцев ждет «долгая дорога». В Тиране она добавила, что камнем преткновения является позиция некоторых членов, проистекающая из их внутренней повестки. Тут весь и набор: и обещание положительного результата, однако лишь после неопредленно длинной дороги, и перекладывание отвественности за проблемы на союзников с горестным признанием, что ничего тут не поделаешь. Видимо, в том или ином виде, «магистрально», подобный подход сохранится почти при любом исходе предстоящих выборов в бундестаг и любой коалиционной комбинации в будущем правительстве Германии, хотя существенные нюансы, конечно, будут.
Надо сказать, многие балканцы понимают всю двусмысленность отношения к ним Европы – так, боснийский премьер Зоран Тегелтия без сантиментов сказал: «Складывается впечатление, что ЕС создает иллюзию открытой политики расширения, а в то же самое время делает перспективы присоединения к Евросоюзу весьма отдаленными». Впрочем, «гражданский брак» и обещание успешной, но долгой дороги выглядят все равно бодрее фразы эстонского президента К.Кальюлайд о том, что Украине до ЕС несколько световых лет. Плотно заниматься Украиной, попавшей под почти полный американский (и частично турецкий) контроль и потому уже не сулящей сверхвыгоды, «староевропейцы» великим желанием не горят. Да и «засланных казачков» в ЕС уже хватает. Хотя, если и там начнет складываться ситуация вакуума, как минимум купировать риски все равно придется.