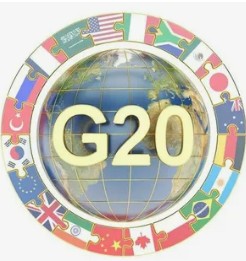Станислав Смагин, политолог
Высшие чиновники Российской Федерации несколько раз за последние годы в той или иной форме публично обрисовывали условия, при которых РФ может деятельно, и не только политико-дипломатическими методами, вмешаться в украинско-донбасский конфликт. Весной этого года, во время очередного обострения данного конфликта, критерии озвучил замруководителя президентской администрации Дмитрий Козак, курирующий как раз проблематику Донбасса и Украины. Вот что он сказал: «Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту».
Упоминая слова президента, Козак имел в виду его заявления на Валдайском форуме осенью 2017 года (если будут попытки использовать силу на востоке Украины, «то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведёт к ситуации наравне с Сребреницей. Там просто будет резня устроена. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим»); на большой пресс-конференции в декабре того же года («если у них [Донбасса] такой возможности [защищаться] не будет, та резня, и даже хуже, чем в Сребренице, будет осуществлена националистическими батальонами»); а также после переговоров с Зеленским, Макроном и Меркелем спустя два года («украинская сторона всё время ставит вопрос — дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну я представляю, что дальше начнётся. Сребреница будет!»).
В связи с этим имеет смысл напомнить, что же из себя представляет та самая пресловутая Сребреница. Это небольшой боснийский город, 11 июля 1995 года в ходе югославской гражданской войны взятый армией боснийских сербов. После штурма, по версии боснийских мусульман (активно поддерживаемой Западом), погибли 8 тысяч их соплеменников разного возраста и пола. Широко растиражированная информация о произошедшем стала одним из главных «запалов» широкомасштабного хорватско-бошняцко-натовского наступления на сербские территории в Хорватии и Боснии, закончившегося Дейтонскими соглашениями. В дальнейшем Гаагский международный трибунал по бывшей Югославии признал виновными в трагических событиях генерала Ратко Младича, получившего пожизненный срок, и ряд сербских офицеров.
Отметим, что боснийско-западная версия трагедии содержит множество нестыковок. Тем не менее, в принципе, понятно, почему российские государственные деятели в заявлениях, в той или иной мере рассчитанных на международную аудиторию, используют название боснийского города. Оно давно стало для западного общества своеобразным мемом, синонимом слов «геноцид» и «резня» и воспринимается в таковом качестве даже людьми, мало и поверхностно знакомыми хотя бы с официальной западно-боснийской версией событий 1995 г. Упоминание Сребреницы – короткий путь для объяснения критериев готовности активно вмешаться в конфликт и защитить мирное население.
Кстати, киевские «ястребы» регулярно выставляют себя своеобразными наследниками антисербских сил югославской войны и свое будущее наступление на Донбасс обещают провести как раз по методичкам «решения сербского вопроса», последовавшего после Сребреницы. Поэтому наша игра на чужом, но устоявшемся терминологическом и символическом поле должна быть и продуманной, и разнообразной. Например, Россия с полным правом и полным на то основанием может оперировать словосочетанием «гуманитарная интервенция».
Это понятие существует уже не первое десятилетие, а юридически и официально введено в международное право концепцией ООН «Обязанность защищать» в 2005 году. Идея гуманитарной интервенции предполагает, что члены международного сообщества могут вмешаться в дела другого государства, если оно не в силах защитить своих граждан от этнических чисток, военных преступлений, массовых убийств за принадлежность к той или иной общности – либо если государство само выступает в роли инициатора/поощрителя такого рода явлений. Благую в своей основе идею западные государства зачастую используют для свержения неугодных им режимов и достижения своих корыстных целей. В случаях же, когда вмешательство реально и объективно требуется, его странным образом дождаться весьма сложно. Так было в 1994-м во время геноцида тутси в Руанде. США тогда не вмешались вообще. Франция, имевшая тесные связи с силами, организовавшими бойню, вмешалась в самый последний момент и сделала это столь топорно, противоречиво и сомнительно, что сами руандийцы до сих пор считают её скорее пособницей убийц, чем защитницей жертв или хотя бы нейтральной буферной стороной.
Россия же имеет богатый опыт по реализации «обязанности защищать» в самом истинном и благородном значении. Еще в 1820-х мы воевали с Османской империей в защиту восставших греков. Тогда, надо заметить, в сотрудничестве с Англией и Францией, и с геополитическими целями, сопутствующими гуманитарным, если не превосходящими их. Но в 1877-м мы обнажили меч против того же противника уже с преимуществом альтруистических, защитнических целей, и при европейском отношении в разбросе от благожелательного нейтралитета до ярой враждебности. Хотя и тут надо признать, что в наиболее враждебной стране, Британии, влиятельный политик Уильям Гладстон сделал многое для отстаивания русской позиции и нейтрализации протурецкой линии. Сейчас на Западе таких Гладстонов явный дефицит.
На Украине за семь лет накопилось неисчислимое количество причин для гуманитарной интервенции, и далеко не только в Донбассе – достаточно вспомнить одесскую Хатынь. В Донбассе же это количество продолжает умножаться ежедневно. Упомянем лишь один недавний инцидент. Жителю Донецка, шесть лет назад потерявшему ногу в результате обстрела, украинский снайпер хладнокровно, прекрасно видя в прицел, что перед ним никакой не военный, отстрелил разрывной пулей вторую ногу. Просто ради забавы.
Защищать в этом случае – не только пргаво, но и действительно, в самом прямом смысле, обязанность. Не только из соображений геополитики и национальной безопасности, хотя и они в случае с Украиной несомненны. На передний план выходят соображения гуманитарные и то, что страдает даже не братский, а часть того же русского народа, вдобавок уже с сотнями тысяч российских паспортов.