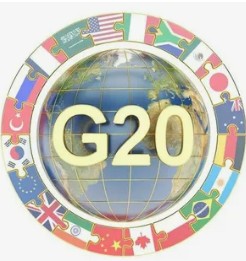Станислав Смагин, политолог
2022 год – это фактически тридцатилетие отсутствия на планете СССР, учитывая, что беловежский приговор ему был подписан в самом конце 1991-го. Крайне символично, что именно сейчас происходит фактически вынесение приговора тому приговору, «отмена отмены», или, если выражаться совсем высоким и трансцендентным слогом, попрание смерти смертью. На физическом уровне, уровне персоналий, это выражается в уходе в мир иной трех творцов беловежского сговора – Бурбулиса, Кравчука, Шушкевича. На уровне политических и геополитических процессов – в радикальном пересмотре всего наследия Беловежья, куда более решительном, чем возвращение Крыма весной-2014.
Мы видим, как решительной ревизии со стороны российского государства и общества подвергается событие, названное Путиным величайшей геополитической катастрофой XX века. Как пересматривается страшная несправедливость – отсечение от России сотен тысяч квадратных километров ее земель и десятков миллионов соотечественников. И важно увидеть и понять, что мы далеко не первые и, скорее всего, не последние, пришедшие за своим родным, гнусно украденным у нас в минуту слабости. Были прецеденты, похожие вплоть до деталей.
Первый и самый очевидный – германский. До наполеоновских войн многочисленные немецкие княжества, герцогства и королевства вместе с массой иноплеменных находились в составе «Священной Римской империи германской нации», про которую современники шутили, что она «не священная, не римская и не империя», да и с принадлежностью германской нации проблема. Своей рыхлостью, запутанностью и противоречивостью внутренних связей СРИГН напомнила СССР в последние пару лет его существования, когда свой «парад суверенитетов» начался еще и в самих республиках, а возглавивший РСФСР Ельцин прямо провозгласил «берите суверенитета, сколько проглотите». Горбачев 1990-1991 это такой «римский император».
В 1806-м году Наполеон, проводя успешные завоевательные войны в Европе, принудил императора Иосифа II объявить о роспуске СРИГН и остаться лишь императором Австрии, а заодно тестем самого Буонопарте, отдавшим за него свою дочь. Далее корсиканец кроил немецкие земли на свой вкус – например, создал королевство Вестфалия, куда посадил королем родного брата Жерома. После победы антинаполеоновской коалиции в результате послевоенного урегулирования был под эгидой держав-победительниц (Англии, России, Австрии и Пруссии) сформирован Германский союз, хрупкий на уровне даже не закатного СССР, а раннего СНГ.
В период европейской «весны народов» 1848-1849 гг. появился шанс на объединение Германии либерально-демократическим путем, но прусский король Фридрих Вильгельм IV, которому собравшийся общенациональный парламент предложил корону, заявил, что брезгует принимать ее от революционеров. Тогда же Пруссия вступила в войну с Данией за герцогства Шлезвиг и Гольштейн, находившиеся в личной унии с датской короной – их немецкое население подвергалось ассимиляции и культурно-политическому давлению. Военные успехи суммарно были скорее на стороне Берлина, но великие державы принудили пруссаков отступиться от своего.
Стало ясно, что германское объединение если и осуществится, то не «снизу», а «сверху», и для этого нужны будут дополнительные силы, а также дополнительное дипломатическое и геополитическое мастерство. Его вдосталь оказалось у Отто фон Бисмарка, ставшего в 1862 г. во главе прусского правительства. Для начала он взял реванш у Дании, которая после первой войны, забыв, что победу ей по большому счету подарили «старшие товарищи» по «европейскому концерту», погрязла в шовинизме, презрении к Пруссии и считала, что при необходимости одолеет ее одной левой. Получилось наоборот, а геополитическая конъюнктура в этот раз оказалась к северянам неблагоприятна. История этой войны, вызывающая многочисленные ассоциации с современным украинским кризисом, подробно рассказана в замечательном датском сериале «1864».
На стороне Пруссии тогда выступила Австрия, и после победы Шлезвиг с Гольштейном перешли в совместное австро-прусское владение, что Бисмарка не устраивало. Впрочем, жажда единоличного владения была лишь частным моментом претензий «железного канцлера» к Австрии. Главное же – Вена выступала главным конкурентом Берлина в деле объединения Германии, раздражающей альтернативной точкой сборки, наиболее привлекательной для южных (и) католических земель. Огромной загвоздкой варианта с австроцентричным объединением была пестрая этническая лоскутность державы Габсбургов, собравшей самые разные народы и их части - от венгров, в итоге добившихся превращения Австрии в Австро-Венгрию, до итальянцев и карпатских русинов. (Кстати, контроль Австрии/Австро-Венгрии над огромными территориями и одновременно ее рыхлость и относительная слабость были причиной, по которой другие великие державы благосклонно смотрели на ее существование как на элемент геополитического баланса, системы сдержек и противовесов). Гипотетической габсбургской Германии пришлось бы либо отпустить большинство иноэтничных земель, либо иметь не очень-то немецкое лицо.
В союзе с Италией Бисмарк начал войну если не гражданскую в точном понимании слова, то уж точно внутринемецкую. Во всяком случае многие современники называли ее «братоубийственной». Целью этой войны, однако, не была полная капитуляция и доведение до глубокой ничтожности Австрии, достаточно было принудить ее к отказу от объединительных амбиций и наделить статусом младшею союзницы. Чего «железный канцлер» и добился, укоротив своих генералов, жаждавших пройти парадом по Вене и обидевшихся, что их лишили столь сладостных минут.
Следующие – и последние – полвека существования «лоскутной империи» в ней были популярны и влиятельны немецкие националисты вроде Георга фон Шенерера, желавшие вхождения Австрии в состав Германии даже ценой потери провинций, населенных другими народами. После поражения в Первой мировой войне, приведшей к этой потере, так сказать, естественным (и одновременно катастрофическим) путем, воплощению этой идеи, поддерживаемой большинством австрийцев, вроде бы ничего не мешало. Однако Антанта, столкнувшись с противоречием между провозглашенным ею правом наций на самоопределение и нежеланием, чтобы Германия по итогам войны что-то приобрела, а не только потеряла, австро-германское объединение запретила.
Конечно, любые отсылки к немецкому опыту чреваты обвинениями в оправдании нацизма, желании скопировать его путь или путь, к нему приведший. Непонятно, правда, что в таком случае делать уже с современным объединением Германии или, называя вещи своими именами, поглощением Западной Германией ГДР. Но ладно, оставим любых немцев любой эпохи и обратимся к стране, громче всех обвиняющей Россию во всех грехах, а именно к США.
Даже сейчас разница между частями Соединенных Штатов и конкретно между Севером и Югом побольше, чем между современными же Австрией и Германией. А полтора века назад она тем более превосходила австро-германскую и русско-украинскую (великоросско-малоросскую) разницу. Достаточно почитать «Унесенные ветром» или хотя бы рассказ Ф.Скотт Фицджеральда «Ледяной дворец», действие которого происходит примерно в 1880-х, через много лет после окончания гражданской войны. Его героиня, южанка Салли Кэролл, влюбляется в северянина, «янки». Друг детства Кларк упрекает ее практически в национальном предательстве («его нельзя любить, он не нашей породы»), девушка смеется над ним, но в итоге, затосковав на чужом Севере, возвращается домой.
Разве эти факты как-то повлияли на решимость Севера во главе с Линкольном обуздать южных сепаратистов? Ответ мы знаем.
Изменение несправедливо установленных границ, разрывающих исторически единые земли и народы, будут происходить всегда, особенно когда оторванную часть народа подвергают геноциду и все это накладывается на геополитические коллизии более высокого порядка. Политики здесь ни при чем или «при чем» не более чем Бисмарк, Коль и Линкольн. А русские Херсон и Харьков намного более гармоничны, чем «проект Украина» «от Сана до Дона».