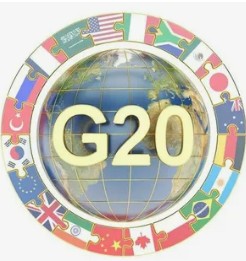Игорь Николайчук, Центр специальных медиаметрических исследований
По моему личному мнению, в массовом сознании россиян Соединенные Штаты Америки остаются чем-то вроде СССР со знаком минус – пусть жесткий соперник, но равный, понятный нам и готовый нас понимать.
В начале 90-х, т.е. в период нашей истории, который, уверен, будет оценен потомками как самый позорный и судьболомный за все века существования Государства Российского, была популярна «патриотическая» песенка:
Не валяй дурака, Америка!
Не обидим, кому говорят...
Отдавай-ка землицу Алясочку,
Отдавай-ка родимую взад.
В это же время на одной из конференций «по перспективам расширения НАТО в Балтийском регионе» пришлось столкнуться с молодой делегацией эстонского МИДа. При общении с юными, но уже высокопоставленными дипломатами со злобными лицами и демонстративным незнанием русского языка очень хотелось надеть бронежилет. Выручал веселый и контактный начальник отдела стратегического планирования МИД Эстонии, ни разу не эстонец, а самый настоящий гражданин США, к тому же брюнетистый. Разговорились. Предки его из российских эмигрантов, в семье обязательно сохранялись навыки разговора на русском языке. Окончил университет, что-то там про русскую культуру. Понаехали наши, спрос на «кремленологов» исчез. Беда и безработица. Увидел объявление Госдепа – нужны американцы для работы в госучреждениях Эстонии. Вспомнил, что прапрадедушка приехал в Америку с территории Эстляндской губернии. Кадровики были счастливы. «Вот, ‑ говорит ‑ теперь планирую стратегию Эстонии; ее приказано вступить в НАТО. Эх, как раньше-то хорошо было, чего вы все испортили!..».
С тех пор много воды утекло. Россия стала для американцев «не друг», «не враг» и даже не «а так», а просто бревно. И это не случайно. Крах СССР и разграбление его материального (да и территориального) наследства привели к радикальной трансформации самого американского общества. Американское государство и экономика окрепли. Если брать во внимание эти факторы, то воевать или соперничать с США просто безумие. Крохотный нюанс. Во время Второй мировой войны судостроительная промышленность США (вспомним «клепальщицу Рози») сдавала флоту по авианосцу каждые две недели, по два эсминца каждые три дня, ну и так далее. И сейчас проблем с этим нет. Только давай отмашку. А вот нация, американский народ исчезли, превратились во множество довольных жизнью индивидуумов, которым и сами-то Соединенные Штаты бревно.
Американцы теперь не склонны присоединяться к социально значимым действиям на основе объединения, т.е. аккумуляции и усиления общественно значимых индивидуальных энергий в рамках добровольных организаций и движений. Это научный факт. Эксперт в данной области американский социолог Питер Турчин пишет: «То, что мы имеем сегодня, ‑ это «таинственное исчезновение» сотрудничества на всех уровнях американского общества: от местных лиг боулинга до экономических и политических институтов национального уровня. Что еще хуже, слово «сотрудничество» исчезает из нашего лексикона».
Непрерывное снижение гражданской активности американцев в рамках формальных институтов гражданского общества, стремление избегать в нынешней жизни требующего персональной ответственности и конкретной работы официального членства в той или иной организации началось в Соединенных Штатах с 1960-х годов прошлого века и сейчас идет ускоренным темпом. В то же время гражданская сплоченность была свойственная американцам всю первую половину ХХ века, особенно укрепляясь в периоды перед и в ходе мировых войн, правда, существенно падая в период крупных экономических потрясений. Вопрос о причинах подобных изменений не праздный, поскольку, как оказывается, американцы теперь вряд ли склонны к самопожертвованию во имя государства в ситуации отсутствия ясных и разделяемых всеми национальных целей и в ходе возможных будущих вооруженных конфликтов крупного (мирового) масштаба, которые многим представляются неизбежными. Социологи пока не могут дать этому объяснения
Весьма сложный вопрос об атомизации американцев и дезинтеграции американского общества принято объяснять наличием весьма большого букета социальных процессов глобального характера: борьба за права этнических и сексуальных меньшинств, подчас принимавшая острые, даже брутальные формы, радикальное изменение роли женщин, возросшая покупательная способность населения, болезненная ломка культурных ценностей западной цивилизации. Хотя глубинные причины радикального падения уровня социального капитала в США остаются предметом научных споров, фокус этих споров, пусть пока и достаточно размытый, сходится на ключевом значении фактора консолидации национальных элит. Если за индикатор уровня социальной капитализации общества принять некий индекс сплоченности элит, отсутствия конфликтов в среде элитариев, то можно показать, что периоды хорошего социального самочувствия общества и, как следствие, экономическое процветание страны соответствовали временам конструктивного сотрудничества конкурирующих элитных групп, либо удаления конкурентов с политической сцены. И наоборот ‑ при обострении конфликтов социальный мир и экономическое процветание прекращалось, а общество впадало во фрустрацию.
Социальный капитал в США сегодня практически истрачен. Элиты (глобалисты против националистов или демократы против республиканцев, что уже не совсем верно) находятся в состоянии войны. В этом и видится «таинственность» отталкивания американцев друг от друга. При этом, с одной стороны, жители США не такие уж явные индивидуалисты, в Штатах присутствуют серьезные потенциалы коллективной государственной и общественной работы, а с другой стороны, ‑ основным мотивом протестов в стране сегодня является то, что среднему американцу или представителям конкретных этнических или социальных групп достается непропорционально малый кусок заметно увеличившегося, ставшего невообразимо пышным общественного пирога, хотя, скажем прямо, американский народ далеко не бедствует. Социальной дилеммой является уже обеспечение справедливости следующего характера: «Почему кто-то богатеет быстрее меня?» или, в терминах движения BLM, ‑ «Почему среди миллиардеров так мало чернокожих?».
Здесь можно дать следующее нравоучительное резюме: демократия и многопартийный парламент губят могучие Соединенные Штаты Америки, разрушая их величие. Вот актуальный пример. Перед промежуточными выборами в этом году нет недостатка в вопросах, волнующих умы избирателей. Конечно, экономика играет центральную роль в кампании. Тем не менее, преступность также находится в центре внимания по всей стране. Мы выяснили, что реальная оценка дискомфорта населения от криминала зависит не от собственного мнения и опыта американцев, а от их партийных симпатий, вернее, от сигналов СМИ и групповодов в соцсетях о том, как надо «правильно» представлять ситуацию. Например, опрос службы Gallup от 28 октября с.г. выявил 6 статистически значимых скачков в оценках проблем с преступностью в США. Так, на 13 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом усилилась позиция «Причинение физического вреда вашему ребенку школьного возраста во время посещения школы», на 8 – «Опасность подвергнуться сексуальному насилию», на 7 – «Ограбление», «Опасность подвергнуться нападению во время вождения вашего автомобиля», «Опасность быть убитым», и на 6 – «Опасность ограбления вашего дома в момент, когда вы там находитесь». Эти «скачки», все как один, возникли как результат соответствующих ответов людей, традиционно голосующих за республиканскую партию. «Демократы» никакой особой озабоченности по этим поводам не проявили.
Да, чуть не забыли про заголовок! В английском языке знакомое нам слово «партизан» означает в первую очередь приверженца, сторонника той или иной политической партии. Партизаны не устраивают диверсий на дорогах, зато ох как курочат единство нации!