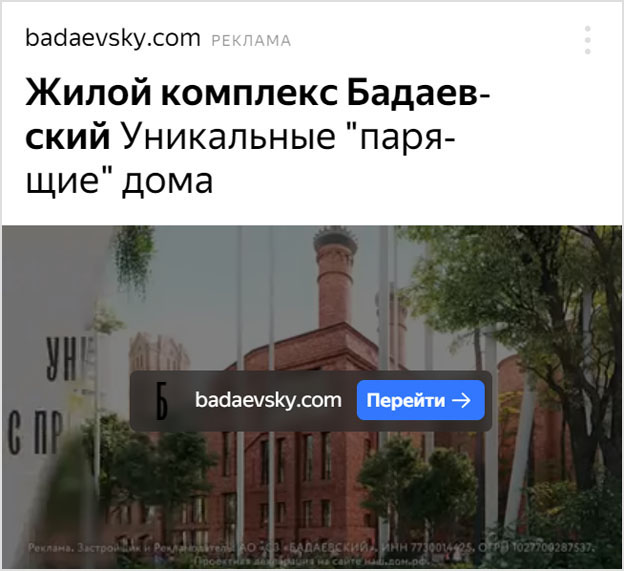Так французские СМИ резюмировали итог президентской кампании. 86 процентов избирателей 6 мая голосовали за двух весьма харизматичных претендентов на высший государственный пост. Пропорция 53 к 47 привела в Елисейский дворец Николя Саркози - представителя правящей правоцентристской партии "Союз за народное движение".
52-летний сын венгерского аристократа – Пауля Заркоши и греческой еврейки победил под объединительным лозунгом "Вместе достигнем всего". Его визави – элегантная мать четырех детей Сеголен Руаяль – сделала упор на то, что она и Франция принадлежат к женскому роду. Правда, чуть выше своего предвыборного портрета она поставила слово "перемены", которое во французском имеет единственное число и мужской род. Таким образом, во Франции оказалось на 6 процентов больше таких, кто в переменах не нуждается и безо всякой партийно-политической детализации желали бы сохранить все как есть. И неастрономический, но стабильный рост ВВП – 5-6 процентов в год, и доступность муниципального жилья, и социально ориентированную систему здравоохранения, и всеобщее среднее образование, и даже бесплатную начальную юридическую помощь. От добра добра не ищут.
Французские политологи, с точностью до процента предсказавшие исход своей главной избирательной кампании, единодушно приводят пример с полупустым или полунаполненным стаканом, по-разному оценивая его содержимое. Одни считают, что соотношение "чуть больше и чуть меньше половины" - это типичная для любой развитой страны пропорция между консерваторами и "эволюционерами". Скажем больше: находясь в начале мая в Петербурге, некоторые из французских политологов сочли эту пропорцию универсальным признаком благополучия любого общества. Нам пожелали такой же неформальной "двухпартийности" в лице "левоконсерваторов" и "правореформистов" - с непременным центристским "якорем" тех и других. Что ж, может, из Парижа и впрямь виднее?
Впрочем, есть и те, кто безотносительно Саркози и Руаяль, а также всего межпартийного расклада, подчеркивает: французское общество медленно, но верно приближается к расколу. Спасение видят в появлении третьей политической силы, интегрирующей общество лозунгами, сглаживающими его экономическую и этническую неоднородность – что-то вроде американских республиканцев и демократов. На эту роль не подходят ни оба финалиста президентской гонки, ни нынешний невнятный "околоцентрист" Байру, ни националист Ле Пен, занявшие 3 и 4 места в политическом списке Франции. В противном случае на смену нынешней консервативно-модернистской спарке рано или поздно придет "галло-эмигрантский" тандем. Высокой политической культуры и толерантности от него не ждут.
54 миллиона титульного населения Франции (из 61 миллиона) стареет с каждым годом. Его средний возраст приближается к 45 годам – европейский рекорд. При этом удельный вес семей, воспитывающих 3-х и более детей, составляет лишь 11 процентов. Но почти 7 миллионов эмигрантов (66 процентов – арабы) представляют, возможно, самую молодую мусульманскую общину в Западной Европе: ее средний возраст – 24 года, число семей с 5 и более детьми - более 50 процентов. Возрастание численности всех категорий эмигрантов до 20 процентов с нынешних 11 (это займет 10-12 лет) таит в себе угрозу разобщения формально по этническим признакам, фактически по социальным. В пересчете на евровалюту рабочий час афрофранцуза стоит 1.5 евро при его среднефранцузской "стоимости" в 6 евро. Этим, как считают французы, воспользуются те и другие ультра. Пока пар удается стравливать за счет по существу социалистических новаций, осуществляемых с капиталистической напористостью. А еще - периодическим приобщением к высшей политической элите страны евроэмигрантов типа венгра Саркози или – несколько лет назад – "русского" премьера Береговуа (Берегового). Тем не менее, афрофранцузы в большинстве голосовали против Саркози, памятного жестким наведением порядка в парижских пригородах ("войной предместий") в конце 2005 года.
Впрочем, свои проблемы французы решат сами. Нас больше интересует содержание и тональность дальнейшего диалога Москвы и Парижа. Конечно, нынешний (до 17 мая) глава французского государства Жак Ширак отличается от своего приемника не столько лояльностью к России, сколько критичностью к Америке. Будучи неформальным лидером "Европы", Ширак позволял себе реверансы на тему "оси Париж-Берлин-Москва" - опять-таки, не столько приближая Россию, сколько подчеркивая предпочтительное партнерство с Германией, особенно при канцлере Шредере. Это косвенно помогало нашему энергетическому альянсу с Берлином, в том числе, в связи с планами строительства подводного газопровода СЕГ. Саркози в этом смысле сначала "западник", потом – француз. Его венгерские, и частично еврейские корни особой германо-, тем более русофилии не обещают. Несколько его заявлений по Чечне и правам человека в России, мягко говоря, полемичны.
Но с другой стороны искать столкновений с Москвой ему тоже не выгодно. Ибо относительно беспроблемные отношения с Россией подчеркивают независимость Франции в рамках западного сообщества. Тем более что за безоглядную дружбу с Вашингтоном не ровен час придется платить в том же Ираке. Да и проснувшийся у французов интерес к своему будущему обращен скорее вовнутрь. Во всяком случае он не означает пересмотра внешнеполитических основ Пятой республики.
Французские политологи, с точностью до процента предсказавшие исход своей главной избирательной кампании, единодушно приводят пример с полупустым или полунаполненным стаканом, по-разному оценивая его содержимое. Одни считают, что соотношение "чуть больше и чуть меньше половины" - это типичная для любой развитой страны пропорция между консерваторами и "эволюционерами". Скажем больше: находясь в начале мая в Петербурге, некоторые из французских политологов сочли эту пропорцию универсальным признаком благополучия любого общества. Нам пожелали такой же неформальной "двухпартийности" в лице "левоконсерваторов" и "правореформистов" - с непременным центристским "якорем" тех и других. Что ж, может, из Парижа и впрямь виднее?
Впрочем, есть и те, кто безотносительно Саркози и Руаяль, а также всего межпартийного расклада, подчеркивает: французское общество медленно, но верно приближается к расколу. Спасение видят в появлении третьей политической силы, интегрирующей общество лозунгами, сглаживающими его экономическую и этническую неоднородность – что-то вроде американских республиканцев и демократов. На эту роль не подходят ни оба финалиста президентской гонки, ни нынешний невнятный "околоцентрист" Байру, ни националист Ле Пен, занявшие 3 и 4 места в политическом списке Франции. В противном случае на смену нынешней консервативно-модернистской спарке рано или поздно придет "галло-эмигрантский" тандем. Высокой политической культуры и толерантности от него не ждут.
54 миллиона титульного населения Франции (из 61 миллиона) стареет с каждым годом. Его средний возраст приближается к 45 годам – европейский рекорд. При этом удельный вес семей, воспитывающих 3-х и более детей, составляет лишь 11 процентов. Но почти 7 миллионов эмигрантов (66 процентов – арабы) представляют, возможно, самую молодую мусульманскую общину в Западной Европе: ее средний возраст – 24 года, число семей с 5 и более детьми - более 50 процентов. Возрастание численности всех категорий эмигрантов до 20 процентов с нынешних 11 (это займет 10-12 лет) таит в себе угрозу разобщения формально по этническим признакам, фактически по социальным. В пересчете на евровалюту рабочий час афрофранцуза стоит 1.5 евро при его среднефранцузской "стоимости" в 6 евро. Этим, как считают французы, воспользуются те и другие ультра. Пока пар удается стравливать за счет по существу социалистических новаций, осуществляемых с капиталистической напористостью. А еще - периодическим приобщением к высшей политической элите страны евроэмигрантов типа венгра Саркози или – несколько лет назад – "русского" премьера Береговуа (Берегового). Тем не менее, афрофранцузы в большинстве голосовали против Саркози, памятного жестким наведением порядка в парижских пригородах ("войной предместий") в конце 2005 года.
Впрочем, свои проблемы французы решат сами. Нас больше интересует содержание и тональность дальнейшего диалога Москвы и Парижа. Конечно, нынешний (до 17 мая) глава французского государства Жак Ширак отличается от своего приемника не столько лояльностью к России, сколько критичностью к Америке. Будучи неформальным лидером "Европы", Ширак позволял себе реверансы на тему "оси Париж-Берлин-Москва" - опять-таки, не столько приближая Россию, сколько подчеркивая предпочтительное партнерство с Германией, особенно при канцлере Шредере. Это косвенно помогало нашему энергетическому альянсу с Берлином, в том числе, в связи с планами строительства подводного газопровода СЕГ. Саркози в этом смысле сначала "западник", потом – француз. Его венгерские, и частично еврейские корни особой германо-, тем более русофилии не обещают. Несколько его заявлений по Чечне и правам человека в России, мягко говоря, полемичны.
Но с другой стороны искать столкновений с Москвой ему тоже не выгодно. Ибо относительно беспроблемные отношения с Россией подчеркивают независимость Франции в рамках западного сообщества. Тем более что за безоглядную дружбу с Вашингтоном не ровен час придется платить в том же Ираке. Да и проснувшийся у французов интерес к своему будущему обращен скорее вовнутрь. Во всяком случае он не означает пересмотра внешнеполитических основ Пятой республики.