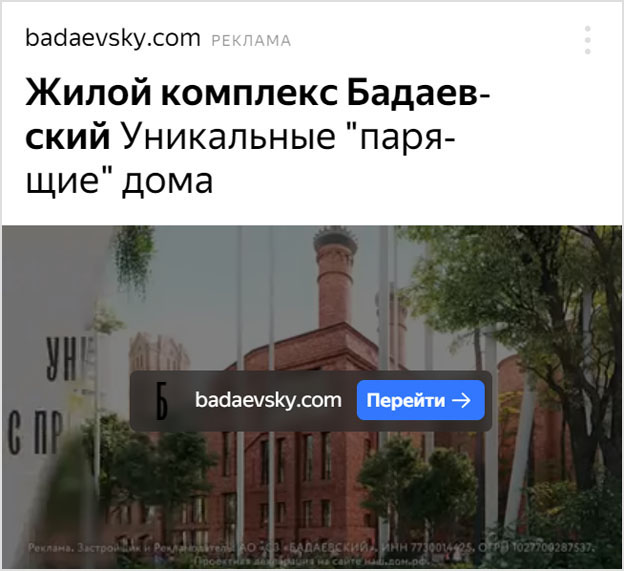Таковой может стать судьба Договора об ограничении вооруженных сил в Европе. В геополитическом контексте о нем вспомнили 26 апреля. Выступая в этот день с посланием к Федеральному Собранию, президент В.Путин объявил мораторий на выполнение ДОВСЕ до его ратификации натовской стороной. Заключенный в 1990 году между Варшавским Договором и НАТО договор был призван обеспечить межблоковый "военно-полевой" паритет. А еще – подвести логическую черту под перечнем первоочередных разоруженческих соглашений последней трети ХХ века. Начало им положил советско-американский Договор о противоракетной обороне (ДПРО), подписанный президентом США Никсоном в 1972 году после размышления над дневником Тани Савичевой в музее Пискаревки. Ограничение именно оборонительных, а не наступательных вооружений, ставило стороны в такую степень уязвимости, которая не давала бы противнику шансов уцелеть при ответном ударе: напавший первым погибал вторым.
А если так, то и сокращение наступательных вооружений становилось логичным продолжением глобально-разоруженческого процесса. За аналогичным, но "уточняющим" Договором 1974 года, последовал прорыв, как это следует из первых букв следующих аббревиатур, в Ограничении Стратегических и Сокращении Наступательных Вооружений: договоры ОСВ-1 (1974 г.), ОСВ-2 (1979 г.), СНВ-1 (1991 г.), СНВ-2 (1993 г.). В развитие ограничительной тенденции в 1987 году заключен Договор о сокращении ракет средней и малой дальности (500-5000 км).
Семь названных соглашений к рубежу тысячелетий "сократили" число ядерных боезарядов каждой из сторон с начальных 10 тысяч до нынешних 3 тысяч. "Межконтинентально-ракетные" ограничения распространили на танки и пехоту. Отсюда возник тот самый ДОВСЕ. Стороны исходили из того, что их вооруженные силы напрямую соприкасаются лишь на флангах: СССР граничил с двумя странами НАТО – Норвегией и Турцией. Главных ударов с флангов никто не ждал, но за "пробным" ДОВСЕ-90 по аналогии с ДПРО-72 намечался договорно-разоруженческий "прорыв" на основном направлении - Центрально-Европейском.
Во исполнение договора, ратифицированного лишь нами, Украиной, Белоруссией и Казахстаном, мы вывели значительную часть тяжелых вооружений (боевых бронированных машин, ударных вертолетов, артиллерийских систем), в частности, с Кольского полуострова и Карелии – до широты Сертолова. Натовцам же квоты ДОВСЕ даже позволили нарастить свои ударные группировки до паритетного уровня. Ситуация кардинально изменилась после вступления в альянс бывших "младших братьев" Москвы, формально оставшихся в зоне прежних советских квот. На стамбульском саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1999 году были уточнены параметры ДОВСЕ. Хотя считается, что новый договор подготовить легче, чем адаптировать старый.
Тем не менее, Москва добилась согласия Брюсселя на незначительное увеличение количества тяжелой техники, прежде всего, на южном фланге - исходя из тогдашней ситуации вокруг Чечни. Россия же взяла на себя дополнительные обязательства по выводу войск из Грузии и Молдавии. Сегодня именно этим пунктом стамбульских соглашений натовцы оговаривают ратификацию адаптированного договора, что еще раз подтвердил генеральный секретарь Североатлантического альянса де Хооп Схеффер вслед за выступлением президента В.Путина перед Федеральным Собранием.
Но по нашей трактовке договора свои контингенты мы вывели. В Грузии (Абхазии и Южной Осетии), в соответствии с международными мандатами, по сути, остались лишь российские миротворцы – суммарно около 3500 человек. Мы считаем, что под квоты ДОВСЕ они не подпадают - мы, ведь, не подводим под них западных миротворцев в Боснии и Косово! Да и в международно-правовом смысле вывод миротворцев возможен лишь при согласии всех сторон конфликта.
То же и с молдавским Приднестровьем. Там находятся 300 российских военнослужащих - в большинстве местные жители. Помимо миротворчества, в их задачу входит обеспечение сохранности оружия и боеприпасов, унаследованных от 14-ой армии и ее предшественниц, участвовавших в военных кампаниях ХХ века. В складской зоне Колбасно объем, в основном, артиллерийских снарядов соответствует емкости 3 тысяч железнодорожных вагонов. За 15 лет вывезено и утилизировано около половины из 45 тысяч тонн военных грузов. Но остающиеся боеприпасы требуют дополнительного внимания из-за их повышающейся взрывоопасности. Средств на проведение сложных и опасных работ нет ни у Москвы, ни у Тирасполя. Натовская же (кстати, не слишком безусловная) помощь оговаривается фактической заменой российских военных на своих. Приднестровцы, тоже обладая правом выбора миротворцев, на это не пойдут. Военно-политическим тупиком уже воспользовались натовцы, принявшие решения разместить свои контингенты в Болгарии и Румынии, популярно нам объяснив, что "это – не базы, а легкие базы". В практическом смысле это означает, что НАТО столь же легко отказывается не только от ратификации договора, но и от него самого.
Некоторые эксперты полагают, что своим мораторием Москва предложила "обменять" ДОВСЕ на американскую ПРО в Европе: иными словами, подтвердить соблюдение ДОВСЕ в обмен на отказ американцев от размещения противоракет, подрывающих, как мы считаем, изначальный Договор по ПРО 1972 года. Определенная логика в этом есть, ибо в противном случае не только России, но и Западу придется спешно искать дополнительные силы и средства. Но скорее это – многоадресный месседж. Помимо отказа от ПРО, мы ждем от Вашингтона содействия в подписании ДОВСЕ странами Балтии. Ибо их потенциальная "емкость" - это не то же самое, что и 300 приднестровских "спартанцев". Более того, Россия в принципе и безотносительно американской ПРО требует уважения, соответствующего роли пусть энергетической, но державы, а не придаточного сырьевого партнера. Тем более что отношения с НАТО все чаще напоминают диалог автопилота с автоответчиком, а тема натовской защиты альтернативного энерготранзита все явственнее переходит в формат Россия-Евросоюз.
Считается, что на ратификацию у стран НАТО есть год. Затем Россия может из договора выйти совсем. В заключение – "интересный" вопрос: что лучше – быть слабым партнером или сильным оппонентом?
А если так, то и сокращение наступательных вооружений становилось логичным продолжением глобально-разоруженческого процесса. За аналогичным, но "уточняющим" Договором 1974 года, последовал прорыв, как это следует из первых букв следующих аббревиатур, в Ограничении Стратегических и Сокращении Наступательных Вооружений: договоры ОСВ-1 (1974 г.), ОСВ-2 (1979 г.), СНВ-1 (1991 г.), СНВ-2 (1993 г.). В развитие ограничительной тенденции в 1987 году заключен Договор о сокращении ракет средней и малой дальности (500-5000 км).
Семь названных соглашений к рубежу тысячелетий "сократили" число ядерных боезарядов каждой из сторон с начальных 10 тысяч до нынешних 3 тысяч. "Межконтинентально-ракетные" ограничения распространили на танки и пехоту. Отсюда возник тот самый ДОВСЕ. Стороны исходили из того, что их вооруженные силы напрямую соприкасаются лишь на флангах: СССР граничил с двумя странами НАТО – Норвегией и Турцией. Главных ударов с флангов никто не ждал, но за "пробным" ДОВСЕ-90 по аналогии с ДПРО-72 намечался договорно-разоруженческий "прорыв" на основном направлении - Центрально-Европейском.
Во исполнение договора, ратифицированного лишь нами, Украиной, Белоруссией и Казахстаном, мы вывели значительную часть тяжелых вооружений (боевых бронированных машин, ударных вертолетов, артиллерийских систем), в частности, с Кольского полуострова и Карелии – до широты Сертолова. Натовцам же квоты ДОВСЕ даже позволили нарастить свои ударные группировки до паритетного уровня. Ситуация кардинально изменилась после вступления в альянс бывших "младших братьев" Москвы, формально оставшихся в зоне прежних советских квот. На стамбульском саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1999 году были уточнены параметры ДОВСЕ. Хотя считается, что новый договор подготовить легче, чем адаптировать старый.
Тем не менее, Москва добилась согласия Брюсселя на незначительное увеличение количества тяжелой техники, прежде всего, на южном фланге - исходя из тогдашней ситуации вокруг Чечни. Россия же взяла на себя дополнительные обязательства по выводу войск из Грузии и Молдавии. Сегодня именно этим пунктом стамбульских соглашений натовцы оговаривают ратификацию адаптированного договора, что еще раз подтвердил генеральный секретарь Североатлантического альянса де Хооп Схеффер вслед за выступлением президента В.Путина перед Федеральным Собранием.
Но по нашей трактовке договора свои контингенты мы вывели. В Грузии (Абхазии и Южной Осетии), в соответствии с международными мандатами, по сути, остались лишь российские миротворцы – суммарно около 3500 человек. Мы считаем, что под квоты ДОВСЕ они не подпадают - мы, ведь, не подводим под них западных миротворцев в Боснии и Косово! Да и в международно-правовом смысле вывод миротворцев возможен лишь при согласии всех сторон конфликта.
То же и с молдавским Приднестровьем. Там находятся 300 российских военнослужащих - в большинстве местные жители. Помимо миротворчества, в их задачу входит обеспечение сохранности оружия и боеприпасов, унаследованных от 14-ой армии и ее предшественниц, участвовавших в военных кампаниях ХХ века. В складской зоне Колбасно объем, в основном, артиллерийских снарядов соответствует емкости 3 тысяч железнодорожных вагонов. За 15 лет вывезено и утилизировано около половины из 45 тысяч тонн военных грузов. Но остающиеся боеприпасы требуют дополнительного внимания из-за их повышающейся взрывоопасности. Средств на проведение сложных и опасных работ нет ни у Москвы, ни у Тирасполя. Натовская же (кстати, не слишком безусловная) помощь оговаривается фактической заменой российских военных на своих. Приднестровцы, тоже обладая правом выбора миротворцев, на это не пойдут. Военно-политическим тупиком уже воспользовались натовцы, принявшие решения разместить свои контингенты в Болгарии и Румынии, популярно нам объяснив, что "это – не базы, а легкие базы". В практическом смысле это означает, что НАТО столь же легко отказывается не только от ратификации договора, но и от него самого.
Некоторые эксперты полагают, что своим мораторием Москва предложила "обменять" ДОВСЕ на американскую ПРО в Европе: иными словами, подтвердить соблюдение ДОВСЕ в обмен на отказ американцев от размещения противоракет, подрывающих, как мы считаем, изначальный Договор по ПРО 1972 года. Определенная логика в этом есть, ибо в противном случае не только России, но и Западу придется спешно искать дополнительные силы и средства. Но скорее это – многоадресный месседж. Помимо отказа от ПРО, мы ждем от Вашингтона содействия в подписании ДОВСЕ странами Балтии. Ибо их потенциальная "емкость" - это не то же самое, что и 300 приднестровских "спартанцев". Более того, Россия в принципе и безотносительно американской ПРО требует уважения, соответствующего роли пусть энергетической, но державы, а не придаточного сырьевого партнера. Тем более что отношения с НАТО все чаще напоминают диалог автопилота с автоответчиком, а тема натовской защиты альтернативного энерготранзита все явственнее переходит в формат Россия-Евросоюз.
Считается, что на ратификацию у стран НАТО есть год. Затем Россия может из договора выйти совсем. В заключение – "интересный" вопрос: что лучше – быть слабым партнером или сильным оппонентом?