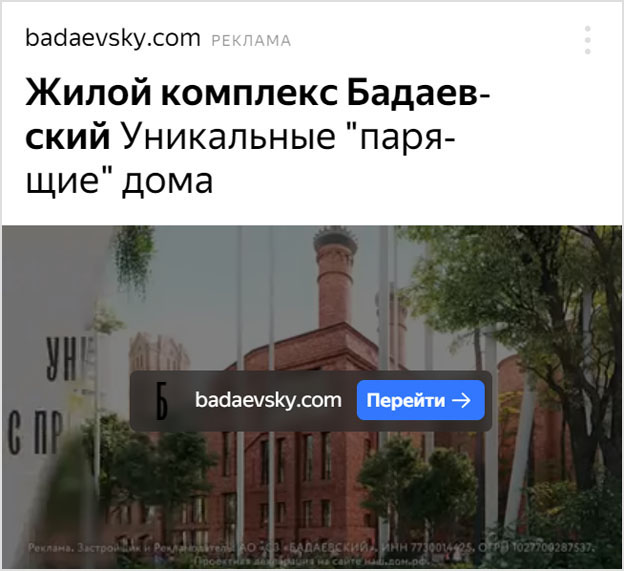Состоявшаяся 25 июня в Стрельне российско-натовская конференция была призвана подытожить отношения между нами за 10 лет существования Совета Россия-НАТО (СРН). Отражение же самих отношений в СМИ подводит к парадоксу. С одной стороны они составляют, если не половину, как в конфронтационные годы, так добрую треть всего объема международных связей. Казалось бы, и общественное внимание к ним должно быть пропорциональным. Но с другой стороны, писать об этих отношениях по существу нечего: образно говоря, меняются пуговицы, а костюм остается прежним. Об этом, в частности, говорят и газетные заголовки за последний год: "Без доверия партнерства не будет", "Так дальше жить нельзя", "Из двух монологов не выстроишь диалога", "Конфронтация уйдет, если будет общее дело"…
Дефицит дел при избытке деклараций
Это и "заморозило" доверие между партнерами-оппонентами на ритуально-протокольном уровне "здрасьте-до свиданья". Возможно, натовцам другого и не нужно. На начальном этапе этих отношений у них была заинтересованность в широком международном (то есть, с нами) подтверждении легитимности балканской миротворческой операции. Тогда, в 1995-96 гг. с натовской подачи была достигнута джентльменская договоренность, состоявшая из двух пунктов: 1) не политизировать собственно миротворческое партнерство, 2) в остальном исходить из принципа не создания друг для друга проблем. Потому соблюдались и ранее подписанные разоруженческие соглашения, и о расширении блока вели речь не иначе, как о чем-то гипотетическом.
Второй раунд наших отношений начался после принятия в Вашингтоне и политически "окрестном" ему Брюсселе решения отрезать от Сербии Косово – чтобы убедить сомневающихся, кто в доме хозяин. Под это подвели первое расширение альянса за счет бывших стран Варшавского Договора. Нам дали понять: НАТО больше не нуждается в балканской "легитимизации", поэтому отношения с Москвой будут строиться, исходя из статуса победителей (в холодной войне) и проигравших. Но чтобы совсем не сжигать все мосты, в очередной раз нам адресовали неформальный "месседж": давайте сообща привыкать к новой реальности, тем более что до приема в НАТО бывших советских республик еще далеко.
Особого афронта с нашей стороны тогда (вспомним последефолтный 1999-й!) не последовало. К чему на Западе отнеслись как к само собой разумеющемуся. Тут и возникла философия натовского взаимодействия с нами: все, что предлагает альянс, - в пользу партнерства. И наоборот: то, против чего протестует Россия, партнерству мешает. На время не стоит на месте. Выйдя на рубеж энергетической сверхдержавы, мы вспомнили, и о своем военном весе. Постепенно от сдержанного неприятия натовского диктата перешли к активным возражениям. Тем более - после второй волны расширения блока и ревизии разоруженческого "пакета" (7 договоров). Базовый российско-американский договор по ПРО оказался дезавуирован не просто альтернативной системой национальной ПРО США, а созданием в Восточной Европе частокола из американских противоракет. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) тем временем приобрел черты акта военно-технической капитуляции России перед утроенным натовским потенциалом.
Совет Россия-НАТО в этих условиях приобрел двоякую роль. Он и закрепляет предложенное нам статус-кво, и оставляет хотя бы формальную надежду на его изменение. Спору нет: СРН может поставить себе в заслугу десятки разнокалиберных соглашений-протоколов. Правда, тот же эффект мог бы иметь прямой звонок генсека альянса нашему президенту или министру обороны. 11 сентября 2001 года первое после тарана нью-йоркских "близнецов" обращение Вашингтона к Москве так и выглядело: председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США во избежание накладок-двусмысленностей по телефону спросил у российского коллеги, не проводим ли мы каких-нибудь ракетных учений. И никаких советов-комитетов не понадобилось.
Десятилетие СРН уточнило пропорцию лучших и худших ожиданий: 50:50, что собственно и подтвердили дискуссии в Стрельне. Тем не менее, впервые за многие годы в стрельнинском зале прозвучало наше предупреждение: "Если коллективные формы безопасности не устроят Россию, она будет думать о безопасности индивидуальной". Это, вообще говоря, похоже на дипломатическую бомбу. Тем временем признаков пересмотра натовцами своей философии нет. Есть обостряющаяся нехватка новых идей. Заскорузлое из года в год повторение натовских доводов по существу приравняли западный поход "за демократией и против терроризма" к советской борьбе "за мир и социализм". Встречи с натовцами оставляют не просто ощущение дежа вю, но смущают сходством с классическим "Павка, изобрази". Когда натовский "Павка" в очередной раз водружается на стул с пафосным кличем "Умри, несчастная" - здесь - эпоха конфронтации", возникают сомнения не только в пользе совместных и, надо сказать, весьма затратных шоу. Но и того, что они символизируют. Понимание этого рано или поздно должно прийти и к Вашингтону с Брюсселем: даже "оскароносный" блокбастер несколько раз в день не показывают.
Но при этом отказ от участия в очередном "НАТО-шоу" означает переход от "квази-партнерства" к еще одному дежа вю - конфронтации с неизбежной гонкой вооружений. Здесь политика отзывается арифметикой. Только для старта гонки вооружений необходимо выравнивание военных бюджетов. Финансовое обеспечение обороны американцами (без прочих натовцев) и нами сегодня образует пропорцию - 17:1 (бюджет Пентагона – 520 миллиардов долларов, наш – 30 миллиардов). Дальнейшая логика "довооружения" требует ежегодно увеличивать военный бюджет на 15-30 процентов. Пресловутые же "ассиметричные ответы" могут быть найдены в частностях, но не во всех трех сферах военного соревнования. Хватит ли сибирской нефти, чтобы заявить себя его участником? Притом, что цифровое выражение натовского потенциала выглядит так: 70 процентов мировых военных расходов, более 80 процентов – расходов на НИОКР и – для формальной иллюстрации – 13.5 тысяч танков. Кстати, Гитлер напал на Советский Союз, имея под рукой лишь 3.5 тысячи…
Реалити-шоу или сама жизнь?
Опять парадокс. Чтобы придать политический вес СРН и соответственно партнерству с Москвой, генсек альянса Я. де Хооп Схеффер привез в Стрельну чуть ли не всё руководство НАТО вместе с послами 26 стран участниц-блока – вдобавок с женами (как-никак, белые ночи!) Голосом российского народа выступил спикер СФ С.Миронов. Впрочем, роль обеих "VVIP"-персон в значительной степени сводилась к озвучиванию наработок, подготовленных на высшем экспертно-политическом уровне. Правда, при этом присутствовали и их основные авторы: от нас – замминистра иностранных дел А.Грушко, директор института США и Канады РАН С.Рогов, от натовцев – ведущие специалисты по отношениям с Восточной Европой и Россией С.Сестанович (США), А.Дж. де Робертис (Италия) и другие, равные им по "прикладному" влиянию на политическую практику. Казалось бы, обеспечен пусть и горячий, но компетентный спор.
В чем же суть парадокса? – Как выяснилось, генсек НАТО не в курсе (или сделал вид, что не в курсе), что Россия вывела свои войска из Грузии и не имеет подпадающих под ДОВСЕ тяжелых вооружений в Приднестровье. Что касается складской зоны в Колбасно, где под охраной 300 российских (одновременно местных) миротворцев действительно догнивают около 20 тысяч тонн боеприпасов, то сами мины-снаряды под ДОВСЕ не подпадают. Кстати, 27 июня грузинской стороне сдана главная база "ударного вооружения" - Ахалкалаки, сдана без давно вывезенных оттуда арсеналов. Однако Я. де Хооп Схеффер продолжает ссылаться на стамбульскую оговорку: сначала вывод войск – потом адаптация ДОВСЕ. Но даже из адаптационной темы по существу изъято договорное или "свободно-творческое" будущее натовской Балтии. Вопрос отведен как в лучшем случае не актуальный, в худшем – провокационный. Нам так и объяснили: все, что касается Балтии, имеет "трудное историческое предисловие". Но дискуссии историков собирают совсем другую аудиторию, не обязательно посвященную в проблематику конкретного договора. Неподалеку и пассаж польского посла в НАТО, столь же "творчески" увязавшего проблемы демократии в России с экспортом польского мяса. Неужели глобальная ответственность НАТО распространилась так широко? Или когда говорить не о чем, говорят о том, что на душе?
Уровню пионерского "политбоя" соответствовала и натовская аргументация в пользу развертывания в Польше и Чехии элементов американской ПРО: "если Россия предлагает совместно использовать РЛС в Азербайджане, значит, она признает иранскую ракетную угрозу. Если признает, значит, должна согласиться на польско-чешский противоракетный "частокол". И не слова о том, что даже рутинное испытание "польских" противоракет "распечатает" весь разоруженческий пакет: противоракету придется наводить на запущенную ударную – среднего радиуса действия. По договору же 1987 года таковых в Европе ("над Европой") быть не должно. Еще более странно, что посол Нидерландов в НАТО не знает, в чем состоят опасения России в связи с натовским расширением. Когда дипломат его уровня, тем более член СРН, оперирует лозунгами типа: "не бойтесь демократии", это внушает сомнения в серьезности отношений Брюсселя к Москве.
Ничего содержательного стороны друг другу не предложили и по Афганистану. Для натовцев дела там складываются не лучше, чем у нас 20 лет назад. За той лишь разницей, что нынешний Афганистан вырос в глобального экспортера тяжелый наркотиков, в 17 раз (85 процентов мирового объема) увеличив его производство только за постталибское время. Правда, главный американист России С.Рогов предложил совместно оказывать военную помощь правящему в Кабуле режиму. Поскольку здесь тоже дежа вю, хотелось бы верить, что это сугубо личное мнение уважаемого академика. Впервые по нашему опыту натовцами (самим генсеком) озвучено "почти приглашение" Белграда в НАТО в качестве компенсации за независимость Косова. Хотя мы так и не поняли, чем "уникальность косовской ситуации" отличается от уникальности абхазской или южноосетинской? Зато весьма осмыслен, по нашему мнению, прогноз "погоды" на завтра: российско-натовский "сюрпляс" будет продолжаться вплоть до поражения американцев в Ираке. После их ухода – а это станет несомненной победой исламистских сил во всем мире – потребность НАТО и России друг в друге скорее составит новую повестку дня.
Дефицит дел при избытке деклараций
Это и "заморозило" доверие между партнерами-оппонентами на ритуально-протокольном уровне "здрасьте-до свиданья". Возможно, натовцам другого и не нужно. На начальном этапе этих отношений у них была заинтересованность в широком международном (то есть, с нами) подтверждении легитимности балканской миротворческой операции. Тогда, в 1995-96 гг. с натовской подачи была достигнута джентльменская договоренность, состоявшая из двух пунктов: 1) не политизировать собственно миротворческое партнерство, 2) в остальном исходить из принципа не создания друг для друга проблем. Потому соблюдались и ранее подписанные разоруженческие соглашения, и о расширении блока вели речь не иначе, как о чем-то гипотетическом.
Второй раунд наших отношений начался после принятия в Вашингтоне и политически "окрестном" ему Брюсселе решения отрезать от Сербии Косово – чтобы убедить сомневающихся, кто в доме хозяин. Под это подвели первое расширение альянса за счет бывших стран Варшавского Договора. Нам дали понять: НАТО больше не нуждается в балканской "легитимизации", поэтому отношения с Москвой будут строиться, исходя из статуса победителей (в холодной войне) и проигравших. Но чтобы совсем не сжигать все мосты, в очередной раз нам адресовали неформальный "месседж": давайте сообща привыкать к новой реальности, тем более что до приема в НАТО бывших советских республик еще далеко.
Особого афронта с нашей стороны тогда (вспомним последефолтный 1999-й!) не последовало. К чему на Западе отнеслись как к само собой разумеющемуся. Тут и возникла философия натовского взаимодействия с нами: все, что предлагает альянс, - в пользу партнерства. И наоборот: то, против чего протестует Россия, партнерству мешает. На время не стоит на месте. Выйдя на рубеж энергетической сверхдержавы, мы вспомнили, и о своем военном весе. Постепенно от сдержанного неприятия натовского диктата перешли к активным возражениям. Тем более - после второй волны расширения блока и ревизии разоруженческого "пакета" (7 договоров). Базовый российско-американский договор по ПРО оказался дезавуирован не просто альтернативной системой национальной ПРО США, а созданием в Восточной Европе частокола из американских противоракет. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) тем временем приобрел черты акта военно-технической капитуляции России перед утроенным натовским потенциалом.
Совет Россия-НАТО в этих условиях приобрел двоякую роль. Он и закрепляет предложенное нам статус-кво, и оставляет хотя бы формальную надежду на его изменение. Спору нет: СРН может поставить себе в заслугу десятки разнокалиберных соглашений-протоколов. Правда, тот же эффект мог бы иметь прямой звонок генсека альянса нашему президенту или министру обороны. 11 сентября 2001 года первое после тарана нью-йоркских "близнецов" обращение Вашингтона к Москве так и выглядело: председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США во избежание накладок-двусмысленностей по телефону спросил у российского коллеги, не проводим ли мы каких-нибудь ракетных учений. И никаких советов-комитетов не понадобилось.
Десятилетие СРН уточнило пропорцию лучших и худших ожиданий: 50:50, что собственно и подтвердили дискуссии в Стрельне. Тем не менее, впервые за многие годы в стрельнинском зале прозвучало наше предупреждение: "Если коллективные формы безопасности не устроят Россию, она будет думать о безопасности индивидуальной". Это, вообще говоря, похоже на дипломатическую бомбу. Тем временем признаков пересмотра натовцами своей философии нет. Есть обостряющаяся нехватка новых идей. Заскорузлое из года в год повторение натовских доводов по существу приравняли западный поход "за демократией и против терроризма" к советской борьбе "за мир и социализм". Встречи с натовцами оставляют не просто ощущение дежа вю, но смущают сходством с классическим "Павка, изобрази". Когда натовский "Павка" в очередной раз водружается на стул с пафосным кличем "Умри, несчастная" - здесь - эпоха конфронтации", возникают сомнения не только в пользе совместных и, надо сказать, весьма затратных шоу. Но и того, что они символизируют. Понимание этого рано или поздно должно прийти и к Вашингтону с Брюсселем: даже "оскароносный" блокбастер несколько раз в день не показывают.
Но при этом отказ от участия в очередном "НАТО-шоу" означает переход от "квази-партнерства" к еще одному дежа вю - конфронтации с неизбежной гонкой вооружений. Здесь политика отзывается арифметикой. Только для старта гонки вооружений необходимо выравнивание военных бюджетов. Финансовое обеспечение обороны американцами (без прочих натовцев) и нами сегодня образует пропорцию - 17:1 (бюджет Пентагона – 520 миллиардов долларов, наш – 30 миллиардов). Дальнейшая логика "довооружения" требует ежегодно увеличивать военный бюджет на 15-30 процентов. Пресловутые же "ассиметричные ответы" могут быть найдены в частностях, но не во всех трех сферах военного соревнования. Хватит ли сибирской нефти, чтобы заявить себя его участником? Притом, что цифровое выражение натовского потенциала выглядит так: 70 процентов мировых военных расходов, более 80 процентов – расходов на НИОКР и – для формальной иллюстрации – 13.5 тысяч танков. Кстати, Гитлер напал на Советский Союз, имея под рукой лишь 3.5 тысячи…
Реалити-шоу или сама жизнь?
Опять парадокс. Чтобы придать политический вес СРН и соответственно партнерству с Москвой, генсек альянса Я. де Хооп Схеффер привез в Стрельну чуть ли не всё руководство НАТО вместе с послами 26 стран участниц-блока – вдобавок с женами (как-никак, белые ночи!) Голосом российского народа выступил спикер СФ С.Миронов. Впрочем, роль обеих "VVIP"-персон в значительной степени сводилась к озвучиванию наработок, подготовленных на высшем экспертно-политическом уровне. Правда, при этом присутствовали и их основные авторы: от нас – замминистра иностранных дел А.Грушко, директор института США и Канады РАН С.Рогов, от натовцев – ведущие специалисты по отношениям с Восточной Европой и Россией С.Сестанович (США), А.Дж. де Робертис (Италия) и другие, равные им по "прикладному" влиянию на политическую практику. Казалось бы, обеспечен пусть и горячий, но компетентный спор.
В чем же суть парадокса? – Как выяснилось, генсек НАТО не в курсе (или сделал вид, что не в курсе), что Россия вывела свои войска из Грузии и не имеет подпадающих под ДОВСЕ тяжелых вооружений в Приднестровье. Что касается складской зоны в Колбасно, где под охраной 300 российских (одновременно местных) миротворцев действительно догнивают около 20 тысяч тонн боеприпасов, то сами мины-снаряды под ДОВСЕ не подпадают. Кстати, 27 июня грузинской стороне сдана главная база "ударного вооружения" - Ахалкалаки, сдана без давно вывезенных оттуда арсеналов. Однако Я. де Хооп Схеффер продолжает ссылаться на стамбульскую оговорку: сначала вывод войск – потом адаптация ДОВСЕ. Но даже из адаптационной темы по существу изъято договорное или "свободно-творческое" будущее натовской Балтии. Вопрос отведен как в лучшем случае не актуальный, в худшем – провокационный. Нам так и объяснили: все, что касается Балтии, имеет "трудное историческое предисловие". Но дискуссии историков собирают совсем другую аудиторию, не обязательно посвященную в проблематику конкретного договора. Неподалеку и пассаж польского посла в НАТО, столь же "творчески" увязавшего проблемы демократии в России с экспортом польского мяса. Неужели глобальная ответственность НАТО распространилась так широко? Или когда говорить не о чем, говорят о том, что на душе?
Уровню пионерского "политбоя" соответствовала и натовская аргументация в пользу развертывания в Польше и Чехии элементов американской ПРО: "если Россия предлагает совместно использовать РЛС в Азербайджане, значит, она признает иранскую ракетную угрозу. Если признает, значит, должна согласиться на польско-чешский противоракетный "частокол". И не слова о том, что даже рутинное испытание "польских" противоракет "распечатает" весь разоруженческий пакет: противоракету придется наводить на запущенную ударную – среднего радиуса действия. По договору же 1987 года таковых в Европе ("над Европой") быть не должно. Еще более странно, что посол Нидерландов в НАТО не знает, в чем состоят опасения России в связи с натовским расширением. Когда дипломат его уровня, тем более член СРН, оперирует лозунгами типа: "не бойтесь демократии", это внушает сомнения в серьезности отношений Брюсселя к Москве.
Ничего содержательного стороны друг другу не предложили и по Афганистану. Для натовцев дела там складываются не лучше, чем у нас 20 лет назад. За той лишь разницей, что нынешний Афганистан вырос в глобального экспортера тяжелый наркотиков, в 17 раз (85 процентов мирового объема) увеличив его производство только за постталибское время. Правда, главный американист России С.Рогов предложил совместно оказывать военную помощь правящему в Кабуле режиму. Поскольку здесь тоже дежа вю, хотелось бы верить, что это сугубо личное мнение уважаемого академика. Впервые по нашему опыту натовцами (самим генсеком) озвучено "почти приглашение" Белграда в НАТО в качестве компенсации за независимость Косова. Хотя мы так и не поняли, чем "уникальность косовской ситуации" отличается от уникальности абхазской или южноосетинской? Зато весьма осмыслен, по нашему мнению, прогноз "погоды" на завтра: российско-натовский "сюрпляс" будет продолжаться вплоть до поражения американцев в Ираке. После их ухода – а это станет несомненной победой исламистских сил во всем мире – потребность НАТО и России друг в друге скорее составит новую повестку дня.