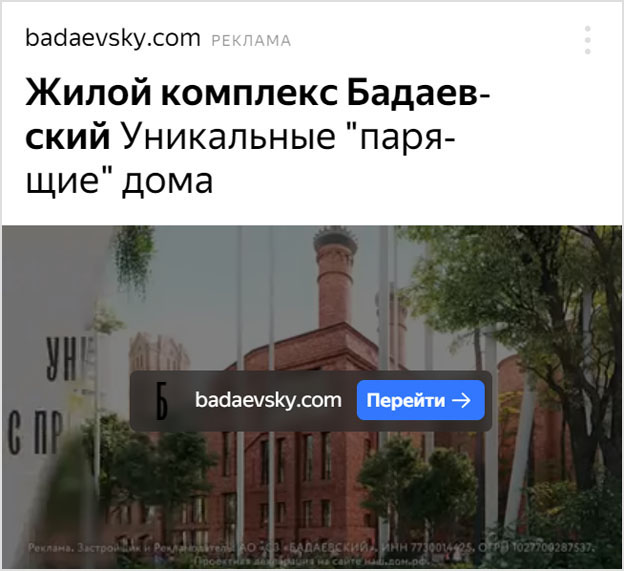Самонадеянные интеллигентские умствования на тему деревенской жизни еще в восьмидесятые годы XIX столетия в письмах "Из деревни" осмеял А.Энгельгардт: "... забота о мужике всегда составляла и составляет главную печаль интеллигентных людей. Кто живет для себя? Все для мужика живут!.. Мужик глуп, сам собою устроиться не может. Если никто о нем не позаботится, он все леса сожжет, всех птиц перебьет, всю рыбу выловит, землю попортит и сам весь перемрет".
И вот опять, более века спустя, опечалилась интеллигенция, возопила: ой, дескать беда – пропал с земли хозяин! Во всеуслышание, хотя и задним числом, был признан несуществующий колхозник, который, даже став как бы и недействительным в глазах общественности, ухитрялся и пахать, и сеять, и косить. Замена ему, объявленному сгинувшим, нашлась на удивление скоро. Будто накануне смуты это спасительное чудо загодя положили под лавку. Незамедлительно вынули требуемое, и оказалось – "архангельский мужик". Помните такого?
Предполагалось, что в результате индивидуализации и фермеризации по прилагаемой модели будет выведен образец рыночного тяглового мужика. Про него врали, будто он и будет назначен хозяином земли. Предложенный идеал из совхоза отселился на хутор – в глушь, в бездорожье. Он должен был, по сути, одними вилами обустроить облюбованную пустошь. Семья его приютилась в неопрятной избе: у печи орудовала ухватом жена, сюда старшему сыну предстояло привести суженую, из дома до школы младшая дочка-шестиклассница добиралась по реке на лодке. Казалось бы, в состоянии полного помрачения только и можно было утвердиться в мысли, что возврат к дикости есть единственно верный путь прогресса.
Хуторянин или общинник? Однажды это уже выяснилось на русском Севере. Дворов, добровольно перекочевавших на выселки, здесь не было вообще. Даже после начала столыпинской реформы с ее насильственным разорением традиционной крестьянской поземельной общины и выдворением семей на отруба в 1916 году во всей Архангельской губернии насчитывалось всего 270 хуторян и отрубников. Так что на поверку "архангельский мужик" с его тягой прочь от селянского мира в медвежью глухомань был просто грубой фальсификацией.
Допустим, что в современных его формах фермерство благотворно. И даже предположим, что ошибался великий поэт Александр Пушкин, утверждая: "Но на чужой манер хлеб русский не родится". Но и тогда ведь остается неразрешимое недоумение: а зачем к прогрессу колхозника повели дальней, с заворотом в прошлый век, тропинкой? Даже по столыпинской реформе семье, выселенной из родной тульской деревни на какую-то сибирскую заимку, полагалось 165 подъемных рублей (корова стоила тогда 5-7 рублей), бесплатные стройматериалы, кредит на 50 лет, проценты с которого погашала царская Россия.
…По нынешним временам в обустройство одного высокоэффективного фермерского хозяйства в США надо вбухать самое малое миллион или полтора миллиона долларов. А действующие мелкие фермы там несут убытки по тысяче долларов в год и держатся на плаву только за счет постоянных дотаций со стороны государства. Более тысяч мелких ферм, не выдерживая конкуренции с крупными, ежегодно идут на дно. В Дании за два десятка лет мелкотоварное сельскохозяйственное производство уменьшилось на 20 процентов. Во всем свете оно показывает себя отсталым, уходящим в прошлое, бесперспективным.
Вот тут-то на излюбленном теоретиками "макроуровне" неотвратимо и выпирает глобальная загадка. Так чего ради, вопреки традициям славянских предков и вопреки новейшей общемировой тенденции, нашего крестьянина из крупного, кооперированного, организованного оснащенного хозяйства заманивают на хуторок? Проще пареной репы отгадка: а чтобы он там подох – хоть в экономическом, хоть в физическом смысле.
А что же поводыри "глупого мужика"? О чем теперь печалятся? Дивные речи произносят: если, мол, любого западного фермера с его капиталами, машинами и агротехникой посадить на частный надел где-нибудь в русской глубинке – непременно разорится. Никому не выжить! Стало быть, интеллигенты сами себя превзошли и скоро, видно, уморят-таки с голоду самый объект своих неустанных забот.
И вот опять, более века спустя, опечалилась интеллигенция, возопила: ой, дескать беда – пропал с земли хозяин! Во всеуслышание, хотя и задним числом, был признан несуществующий колхозник, который, даже став как бы и недействительным в глазах общественности, ухитрялся и пахать, и сеять, и косить. Замена ему, объявленному сгинувшим, нашлась на удивление скоро. Будто накануне смуты это спасительное чудо загодя положили под лавку. Незамедлительно вынули требуемое, и оказалось – "архангельский мужик". Помните такого?
Предполагалось, что в результате индивидуализации и фермеризации по прилагаемой модели будет выведен образец рыночного тяглового мужика. Про него врали, будто он и будет назначен хозяином земли. Предложенный идеал из совхоза отселился на хутор – в глушь, в бездорожье. Он должен был, по сути, одними вилами обустроить облюбованную пустошь. Семья его приютилась в неопрятной избе: у печи орудовала ухватом жена, сюда старшему сыну предстояло привести суженую, из дома до школы младшая дочка-шестиклассница добиралась по реке на лодке. Казалось бы, в состоянии полного помрачения только и можно было утвердиться в мысли, что возврат к дикости есть единственно верный путь прогресса.
Хуторянин или общинник? Однажды это уже выяснилось на русском Севере. Дворов, добровольно перекочевавших на выселки, здесь не было вообще. Даже после начала столыпинской реформы с ее насильственным разорением традиционной крестьянской поземельной общины и выдворением семей на отруба в 1916 году во всей Архангельской губернии насчитывалось всего 270 хуторян и отрубников. Так что на поверку "архангельский мужик" с его тягой прочь от селянского мира в медвежью глухомань был просто грубой фальсификацией.
Допустим, что в современных его формах фермерство благотворно. И даже предположим, что ошибался великий поэт Александр Пушкин, утверждая: "Но на чужой манер хлеб русский не родится". Но и тогда ведь остается неразрешимое недоумение: а зачем к прогрессу колхозника повели дальней, с заворотом в прошлый век, тропинкой? Даже по столыпинской реформе семье, выселенной из родной тульской деревни на какую-то сибирскую заимку, полагалось 165 подъемных рублей (корова стоила тогда 5-7 рублей), бесплатные стройматериалы, кредит на 50 лет, проценты с которого погашала царская Россия.
…По нынешним временам в обустройство одного высокоэффективного фермерского хозяйства в США надо вбухать самое малое миллион или полтора миллиона долларов. А действующие мелкие фермы там несут убытки по тысяче долларов в год и держатся на плаву только за счет постоянных дотаций со стороны государства. Более тысяч мелких ферм, не выдерживая конкуренции с крупными, ежегодно идут на дно. В Дании за два десятка лет мелкотоварное сельскохозяйственное производство уменьшилось на 20 процентов. Во всем свете оно показывает себя отсталым, уходящим в прошлое, бесперспективным.
Вот тут-то на излюбленном теоретиками "макроуровне" неотвратимо и выпирает глобальная загадка. Так чего ради, вопреки традициям славянских предков и вопреки новейшей общемировой тенденции, нашего крестьянина из крупного, кооперированного, организованного оснащенного хозяйства заманивают на хуторок? Проще пареной репы отгадка: а чтобы он там подох – хоть в экономическом, хоть в физическом смысле.
А что же поводыри "глупого мужика"? О чем теперь печалятся? Дивные речи произносят: если, мол, любого западного фермера с его капиталами, машинами и агротехникой посадить на частный надел где-нибудь в русской глубинке – непременно разорится. Никому не выжить! Стало быть, интеллигенты сами себя превзошли и скоро, видно, уморят-таки с голоду самый объект своих неустанных забот.