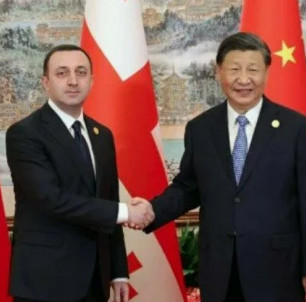Не буду напрягать своих оппонентов. Тарас Шевченко – поэт. Без сомнения, самобытный. Именно в самобытности и в новизне явления его поэтическая сила. Здесь любой эпигон будет уничтожен под огнем критики, лишен самого звания "поэт". Так легкомысленно и вместе с тем блестяще, простодушно-небрежно обратиться с рифмой, игнорировать ритм стиха, ради красочности ломать внутреннюю логику темы, противоречить самому себе, выдавать за реальности самую невероятную фантазию позволительно только Шевченко. Oн был первым! Звуки его кобзы существуют сами по себе без слов, без смысла, заложенного в них и в их сочетании. Мы на стороне Катерины, хотя до конца непонятно, то ли москаль ее обесчестил, то ли она обесчестилась посредством москаля. "Садком вышнэвым", рисуемым звуками шевченковских струн, был очарован Иван Тургенев, опытный читатель и знаток людей. Он определил, как поэтическую, струю, "бившую в нем" (в Шевченко), приметил страстность натуры, необузданность, без которой такая струя не рождается. Признанный в Европе мэтр художественного слова по незначительному числу прочитанной им Шевченковской лирики увидел народного поэта, талантливую личность, но усомнился в его "громадном", чуть ли не "мировом" значении, в чем была уверена малоросская колония в Петербурге.
Однако как раз со стороны малороссов и украинофилов мы слышим нелицеприятные суждения о поэзии земляка. Известный историк М.Драгоманов считал Шевченко величиной "дутой" в литературном смысле. Другой патриот всего украинского, П.Кулиш, писал: лишь небольшое количество стихов Шевченко – скромный, но душистый букет, который имеет шансы не увянуть, остальное "не лучше сору". С такой (подчеркну, украинофильской!) трактовкой согласен Н.Ульянов: "Поэтом он был не гениальным и не крупным; три четверти стихов и поэм подражательны, безвкусны, провинциальны; все их значение в том, что это дань малороссийскому языку?" Отсутствие "простоты вымысла и рассказа" и "наполненность вычурами" увидел в виршах и поэмах "Кобзаря" Белинский. Что касается народа, того народа, кому адресовался "Кобзарь", людей малограмотных или вообще темных, тот же Драгоманов свидетельствует о равнодушии мужиков к "проповеди новой правды" вчерашним мужиком, что теперь вхож в панские гостиные. Удивительное свидетельство! Объяснение находим у Н.Ульянова: "Шевченко при жизни и в первые годы за гробом был не национальным поэтом, а националистическим, певцом сепаратистов, тогда еще малочисленных". Сегодня ситуация иная. Часть народа суверенной Украины целенаправленно одурманена. Не имеет значения, какой поэт Тарас Шевченко (в смысле поэтического мастерства). Главное, какую национальную ценность он воспевал. В этом он действительно Пророк. Вернее, его тень. А тени можно приписать многие качества: Мыслитель, Историк (первый!), Основатель (общественной мысли), Революционер-Демократ. Но обладал он ими при жизни? Отвечал ли столь высокой аттестации?
В революционности "революционного демократа" (равно как и в демократизме) сильно сомневались проницательные современники, в т.ч. Драгоманов. Да и мы, простые читатели, видим: в творчестве Шевченко-бунтарь пугачевского толка, жестокий мститель-теоретик, призывающий "добре острить секиру"; его антицаризм проявлялся в нотах типа: "Царей, кровавых корчмарей, в железо-кандалы закуй, в глубоком склепе заточи", в ругани в адрес императрицы: "Сука!" (да, той самой, что выделила из личных средств на его освобождение 1.000 рублей). Революционные преобразования он представлял "окроплением злой вражьей кровью" будущей воли, когда "потечет реками кровь в море". Да он и не был знаком ни с одним революционным демократом, если не считать петрашевца Момбели – шапочное знакомство. Проникнуться их идеями через чтение тоже не мог. По общему мнению, подтверждаемому И.Тургеневым ("даже Гоголь был ему поверхностно известен"), Кобзарь не шибко жаловал книгу, более прислушивался к разговору других; "книг не собирал, никогда не читал при мне" (скульптор Микешин). Слабо знал античную мифологию, Российскую общую историю, чем, по Микешину, "оберегалась его исключительность и непосредственность отношений ко всему малорусскому". Драгоманов отказывался подписаться под сочетанием слов "революционер и мыслитель", характеризуя модного земляка. Он полагал, что с мыслило как раз и обстояло хуже всего у Тараса Григорьевича. "Не верил Драгоманов, – пишет Н.Ульянов, – и в его хождение в народ, в пропаганду на Подоле, в Кирилловне и под Каневом. Кроме кабацких речей о Божьей Матери, никаких образцов его пропаганды не знаем". Он никак не отозвался на отмену крепостного права. Неудивительно: крепостной крестьянин никогда не был героем его произведений, бывший дворовый человек его попросту не знал. Помыслы Тapaca были далеко от кормилицы земли – он был погружен в нирвану несуществующей с 1775 г. легендарной Сечи. В нем сидел гайдамак, и хотя он называл декабристов "святыми мучениками", воспринял их якобизм не в идейном, а в эмоциональном плане, замечает Н. Ульянов. В цареубийственных стихах Рылеева видел он свой декабризм, "цареубийственностью" превзошел pycского поэта – в кровавой мечтательности, проявив политическое настроение. Если уж под нажимом шевченкоманов согласиться, что он революционер, то (присоединяюсь к Ульянову) по темпераменту, не иначе.
Но есть одна сфера духа, в которой яркой кометой вознесся Тарас Шевченко, и все сияет в зените, никак не заходит за горизонт. Здесь он безусловно гений и прочая, и прочая. Это русофобия.
Вопреки очевидным фактам, Костомаров и ему подобные обеляли земляка, будто шевченковские "чувства не были никогда осквернены неприязнью к великорусской нации" ("Основа', 1861, IV, с.53). Всех русских он называет, как правило, москалями – прозвищем, изобретенным ляхами. Пройдитесь по "Кобзарям", письмам, дневникам Тараса. Прав Ульянов: "несть числа неприязненным и злобным выпадам против москалей... все они, весь русский народ ему ненавистны. Даже в любовных сюжетах, где страдает украинка, обманщиком всегда выступает москаль". Во дни, казалось бы, наивысшего счастья и душевного подъема, признательности всему русскому Петербургу, давшему художнику свободу, он пишет Основьяненко: "Тяжко жити з ворогами". Что тогда говорить о годах солдатчины! Драгоманов заметил, "живучи среди солдатиков, таких же невольников, как он сам, – не дал нам ни одной картины доброго сердца этого "москаля"... Москаль для него и в I860 г. – только "пройдисвiт" (проходимец – С. В.), как в 1840 г. был только "чужой человек" ("Громада" №4, 1879). События личной жизни никак не могли дать повода Кобзарю для накопления в себе этой ненависти. Антирусизм автора "Заповита" – от его застарелой болезни – казакомании, развившейся как от природного предрасположения к вольнице, так и от чтения казацкой литературы, от его настольной книги "Истории русов", этого памфлета, созданного подпольными сепаратистами в интересах польского реванша.
Сергей Величко
Ссылки по теме:
Мифы о великом кобзаре. Миф первый: Солдатская шинель Тараса