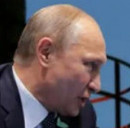Не секрет, что во Франции доступ к компьютеру с русским шрифтом и интернету имеют относительно благополучно устроенные наши эмигранты, а вовсе не те несчастные русские жены французов, о которых шла речь. Раздраженная реакция уже первых читателей была примерно такова: вы ("вы – явно продажный социолог, пишущий заказную статью, чтобы люди не ехали на Запад") описываете какие-то редкие случаи, вы бы еще рассказали про жителей арабских кварталов в Страсбурге, зачем защищать русских жен, которые отнюдь не самые лучшие в мире... Ну, во-первых, арабов в Страсбурге, так же, как и повсюду во Франции, очень много, во-вторых, мне как-то ближе мои соотечественники русские, а не арабы. Арабы близки постольку, поскольку тоже эмигранты, но несколько другой категории, чем русские (перед арабами Франция отрабатывает историческую вину, что создает непростую проблему постепенного превращения ее из христианской страны в мусульманскую), во-вторых, если наши русские женщины не самые лучшие, то это не означает, что их права можно ущемлять, пусть даже в самой что ни на есть приватной сфере. "Я так понял, это она о себе писала", "Не дают покоя наглые создания, заловившие мужей на средиземноморских пляжах". О себе в той мере, в какой пишет каждый сопереживающий по поводу нарушения прав другого. Не дают покоя совсем не потому, что наглые (хотите бороться за свое счастье, ну так в любви, как на войне, по выражению французов, все средства хороши), а потому что познакомиться с французом и даже выйти замуж за него легко, а сохранить свое достоинство, реализовать свои ожидания в браке с малознакомым человеком, да еще в другой стране, гораздо труднее; не случайны попадания в приют для побитых жен и многие другие грустные реалии. Меня спросила недавно одна молодая женщина, прочитавшая мои статьи: а можно ли все-таки после всего этого пытаться организовать международное брачное бюро? Я ей ответила, что, конечно же, да. Потребность в международных браках все равно существует. Это вытекает из логики развития института брака. Но просто сводить кандидатов на брак между собой недостаточно. Посадите и в России и во Франции в филиалах Вашего бюро психологов и юристов. Женихи и невесты из двух стран должны оценить свою психологическую совместимость, они должны знать в необходимом для себя объеме законодательство обеих стран, они должны проходить тренинги адаптации к другой стране, они должны знать свои юридические и человеческие права и обязанности. Будущие женихи и невесты должны договариваться между собой по множеству пунктов, в том числе и в форме контракта. Если французский муж с первых дней брака будет искать для своей жены место поломойки по 8- часов в день, то невеста хотя бы должна знать о таких его намерениях. Будет много издержек в таком брачном бюро? Ну, так это уже другой вопрос, если вы не хотите плодить несчастных и получать от них только прибыль.
Из всей многоцветной картины пребывания русских во Франции я выбрала те явления, которые меня впечатлили и даже потрясли более всего. Как вытекает из моего же повествования, я не претендовала на полноту картины, на ее всеохватность тем более. "Это своеобразное наблюдение", – пишу я. Но ведь для критиков любое мое лыко не в строку! И даже отдельное слово – "эмигрант"! Кстати, ключевое для статьи. Знаю, что многие уехавшие из России эмигрантами себя не считают. Так спокойнее. Просто уехали на время. Надо будет, вернемся. А если вам плохо во Франции, то не нойте и быстренько возвращайтесь в Россию, чтобы не портить нам нашу общую картину счастливого пребывания во Франции. Разве не такова логика моих оппонентов? Понятие "эмигрант" в ХХ веке претерпело некоторую эволюцию. Если ты эмигрант, то ведь и иммигрант одновременно. Эмигрант по отношению к стране, из которой выехал, иммигрант по отношению к стране, в которую поселился. Вроде бы все ясно. Но тогда почему русских, находящихся на Западе по паспорту Нансена в 1930-е годы, принимали на работу в первую очередь, то есть не "как всех иммигрантов", а как "эмигрантов"? Я об этом пишу в статье "Последняя остановка – Франция". Понятия "беженец" тогда еще не существовало, оно возникло позже, на основе Женевской конвенции 1951 года. Но на протяжении долгого времени как во Франции, так и в России, эмигрантами называли вынужденных бежать из страны, а иммигрантами – людей, просто въехавших в страну. Это, конечно, нестрого научное определение двух категорий, речь идет об обиходном употреблении этих слов. Но я же не пишу строго научную статью, хотя раздражение по поводу моих якобы претензий на научность слышится от наиболее рьяных оппонентов. Так и ведь моя родная социология (и досталось же мне за нее) на всем протяжении периода своего формирования как науки (а этот период шел достаточно долго – несколько веков и еще не закончился) делилась на две ветви: классически-научную, объективно-количественную и субъективную, основанную на представлении о ценностях и на простом человеческом понимании изучаемых объектов. Без особых претензий на научность (ей Богу, Вам они почудились, уважаемые Карина, Мистраль, Оля и Матильда) могу сказать, что мой подход близок ко второй ветви социологии – субъективной.
Кстати, по поводу количественных методов. Один молодой ассистент кафедры социологии одного столичного вуза заболел темой "утечки мозгов за рубеж". Составил анкету, разослал ее по электронной почте ученым, находящимся на ПМЖ за рубежом. Электронные адреса раздобыл в отделах кадров тех НИИ и вузов, откуда уехали люди за рубеж. Анонимность гарантировал, предлагая респондентам в случае сомнений в ней послать ответ с другого, не собственного электронного адреса. Как вы думаете, какова доля ответивших на анкету? При почтовом способе рассылки анкет она обычно равна 20-30%. В данном же случае она равнялась полному нулю. О причинах такой неудачи с анкетами можно только строить предположения. Оставляю это право за читателями, но, вернувшись к нашим баранам, могу сказать, что я нарушила негласное правило эмигранта: "Даже если тебе нечего скрывать, скрывай о себе все, что можешь". И это нарушение повлекло за собой то, что на форуме стали обсуждать не саму конкретную проблему, а мои анкетные данные.
Кстати, опять о социологии, если уж я за нее была так неоднократно бита. Есть одно такое определение социологии, которое мне очень нравится, оно принадлежит австрийскому социологу и философу З.Бауману: "Социология – это власть неимущих". Действительно, куда бы ни попадал социолог, пусть и в "арабские кварталы Страсбурга или к неграм в Москву", он в первую очередь видит неимущих – не имущих не только богатства, но и других условий личного благосостояния. "Вы, конечно, извините, но неужели Вы целый месяц посвятили встречам с неудачниками?" – осуждающе спрашивает меня Сара. Я не просто встретила их, я их увидела. Не надо было ходить далеко. Все последующее мое пребывание во Франции привело меня в основном к невеселым впечатлениям о положении русских во Франции и Ваше, Сара, пожелание мне повстречать на своем пути счастливых людей, к сожалению, не сбылось. То есть я ни в коем случае не отрицаю, что они есть, они обязательно есть, 0%-ных тенденций в обществе не бывает! Да и встреченных мною людей неудачниками в полном смысле не считаю. Зарубежный опыт для них был "сын ошибок трудных". Вслед за Мари хочу пожелать всем личного счастья в той стране, где Вам лучше, но в то же время и отмечу, что ситуация, описанная Мари, все же более распространена, на мой взгляд. Ни в коем случае не покушаюсь на чувства тех, кто нашел хорошего супруга среди французов, или тех французов, которые счастливы в браке с русской женщиной, как Трибунэ, но прошу и тех и других проявить понимание и душевную мягкость по отношению к тем эмигрантам, которые далеко не столь счастливы, как Вы. "Почему-то некоторым так нравится жаловаться и возлагать вину на других за свои несчастья, ведь больше нечем заняться", – примерно так пишет в комментариях Трибунэ. А что, уже нельзя жаловаться в такой демократической стране, как Франция? Но ведь французы в порядке шутки или самокритики называют себя первыми жалобщиками, любящими поплакаться в жилетку (см. Учебник по разговорной лексике современного французского). И не потому, что нечем заняться, а потому что невозможно себя выразить на квалифицированной и достойной работе. При том, что далеко не всегда и поломойкой-то можно устроиться. Вы, Трибунэ, уличаете меня в неточности приводимых мною показателей уровня безработицы. Но цифру именно в 23% , относящуюся к департаменту Эро, я увидела в одном из четырех агентств службы занятости в Монпелье весной 2002 года, когда шла активная предвыборная кампания. Прошли выборы, плакаты сняли. Кто кого вводит в заблуждение, это вам, французам, виднее. Но неужели вы уверены, что к эмигрантам относится именно указанный Вами уровень безработицы? Вот данные из французского статистического журнала TEF 2001/2002, раздел "Занятость иностранцев". Не самые новые, но такое статистическое обследование проводится, видимо, не каждый год. В марте 2000 г. уровень безработицы по всей Франции среди граждан Франции был равен 9,4%, при этом среди французов, получивших гражданство по рождению, он был равен 9,2%, среди французов, получивших гражданство после переезда в страну, он был равен 14%, при этом среди женщин – гражданок Франции, но тоже бывших иммигрантов, уровень безработицы уже 16%. По иностранцам цифра более грубая и мрачная, как аттестовали бы ее мои оппоненты. Ну, так правда часто, увы, бывает мрачной. Среди иностранцев уровень безработицы (Вы меня, конечно, извините, Трибунэ) уже 20,8%, среди женщин-иностранок – 25,4%. При этом многое определяется тем, выходец ли Вы из Европейского Союза или приехали из страны, находящейся вне его. Так вот, если Вы все-таки выходец из Европейского Союза, то безработица среди этой категории выражается уровнем в 9,5%, среди женщин – выходцев из ЕС – 11,4%. А если вы выходец из страны – не члена ЕС, то к Вам относится цифра 27,7%, а к женщинам-иностранкам – выходцам не из ЕС – уже 35,5%. То есть к русским женам, если они хотят встать на учет в службу занятости, относится именно эта последняя цифра. Кстати, по всей Франции безработица за этот период была равна ,0%, по женщинам 11,9% (указанный журнал, с.85). Поэтому не случайно в комментариях Снежана (кстати, поддержавшая статью) отмечает, что женщине-иностранке при любом из официально объявленных уровней безработицы одинаково сложно устроиться на работу. Насмешки над этой стороной проблемы мне плохо понятны, тем более что ни один оппонент не привел конкретного примера удачного трудоустройства (своего или чужого) во Франции.
Зато понимаю, почему большинство оппонентов "размазали меня по стенке" (правда, тоже грубо) за то, что такие наблюдения не могут быть получены за один месяц. К сожалению, сдавая статью "Старые русские, новые французы" в большой спешке (в Москве я всегда нахожусь проездом), я действительно не заметила, что вкралась ошибка: вместо реального 2000 года указан 2002 год. То есть, на самом деле, к моменту написания статьи я уже полтора года находилась во Франции. Никакого презрения и злости к Франции, а также к русским, проживающим в ней, я не испытывала. Трудности адаптации (в том числе психологические) эмигранта – это одно, а вечно прекрасная Франция – это другое. Мне многое во Франции нравится и продолжает нравиться. Например, то, что много чиновников (гораздо больше, чем в России); но это хорошо, раз уничтожены рабочие места, созданные по схеме "человек-машина", то пусть хоть создаются рабочие места по схеме "человек-человек". И среди чиновников легко можно встретить отзывчивых и искренне сочувствующих людей. Если они не могут подчас помочь делом, то хоть словом утешат. Воспитатели в приютах также помогают побитым женам и советами, и административными демаршами. Я выразила сожаление, что нет в этих приютах психологов (то есть опять же ликвидировано очень важное рабочее место, в отличие от российских кризисных центров, которые созданы не только для показухи – просто их катастрофически не хватает!), но о приютах я вообще не пишу с презрением, в чем неоднократно упрекала меня Chat noir. Вы ошиблись, с презрением можно писать скорее о человеке, вот как Вы обо мне. Уточняю: питание действительно очень хорошее, но врач бывает далеко не во всех приютах. Я ни в коей мере не осуждаю ни жен, вышедших замуж по каталогу, ни даже их мужей: я уже нахожусь в таком возрасте, когда всех жалко – и оскорбителя, и жертву (провоцировала ли она оскорбления – давайте здесь не будем разбирать; и еще просьба – давайте не обсуждать достоинства, особенно мужские и женские – персонажей, речь не о сексуальных проблемах, а о другом). Каков мой возраст – не буду указывать, иначе критики побьют не только "по ребрам, но и по годам".
Согласна с Эммой: критика действительно в основном грубая. Поэтому я испытывала некоторое замешательство: если оппонентам статей хорошо живется, то почему они столь агрессивны? На этот счет выскажу предположение: эмигрант, как бы он ни был счастлив в новой стране, испытывает состояние стресса, хотя может и подавлять его в себе (подавление эмоций далеко не всегда идет на пользу). Прежде всего это стресс, вызванный кризисом самоидентификации. Вы свой среди чужих и чужой среди своих. Ах, может быть, не чужой? Но тогда Вам придется это постоянно доказывать. Про языковые трудности я не говорю: они первое время есть даже у окончивших вуз по специальности "французский язык". Эмигранты – это прежде всего конкуренты. С такими же русскими. С французами. А конкуренция (людей, а не предприятий) разъединяет людей – как в современной России, так и во Франции. Эмигрант, ориентированный на личный успех, отсекает от своей жизни все лишнее, как скульптор. Он лепит свою жизнь, к нему так просто не подходите, особенно всякие нытики. "Неудачи заразны", – опасается Chat noir. Против нытья на форуме вообще ведется активная борьба. Хотя нытик подчас и сам поскулит, и другим поможет, а от категоричных жестких людей подчас может исходить и более негативная аура (кстати, той русской женщине при переезде ее с ребенком в приют помогали-то как раз нытики и неудачники, как с французской, так и с русской стороны). Еще раз повторяю: значит, мы, русские эмигранты, все должны испытывать советские чувства законной гордости и глубокого удовлетворения, но теперь уже потому, что оказались вне бывшего СССР. А кто этих базовых чувств не испытывает – ату его.
"Дураков и в церкви бьют", – как любезно напомнила мне Сара. Правда, я таких церквей все-таки не припомню – ни в России, ни во Франции. Согласна с Этуаль, очень часто не везет и умным женщинам, испытывающим искренние чувства к французскому супругу. Таких давайте тоже бить. Впрочем, нам, русским, не за что себя особо уважать и тешить себя иллюзиями, что мы самые – самые, как упорно поучает меня Оля. Из всей российской жизни ей припоминается только маразм и ужас той жизни. Я понимаю ситуации, когда родина может быть не матерью, а мачехой человеку. Но ведь не каждому же русскому. И Вам, Оля, приходит на ум все-таки строка из Крылова, а не из Лафонтена. Значит, у нас и баснописцы были. А не только нескончаемый маразм той жизни. Вы педалируете мотив, что и наши исследователи тоже не самые лучшие. А Вам, Оля, ничего не говорит тот факт, что Нобелевскую премию по физике 2003 года получили два русских ученых, один, правда, обладатель двойного гражданства (следствие утечки мозгов, которая оппонентов вообще как явление не волнует)? В перманентно маразмирующей стране такое вряд ли возможно. Но наиболее упорные оппоненты бывают еще и очень подозрительны. "Вот и сама Вершинина нарисовалась и своих подружек привела – защищать свои шедевры" – опять же Оля. На шедевр не претендую. Мне главное было вызвать сопереживание читателя... Подозрения в мой адрес множатся, особенно насчет продажности. Однако труднее всего опровергнуть тот факт, что ты не верблюд. Хотя подумайте, кто же может заказать такую статью, пока Россия, на мой взгляд, не делает ничего как государство, чтобы вернуть на родину не испытывающих за бугром особого счастья (я совсем не имею в виду сталинские послевоенные методы; кстати, в принудительном возвращении русских на Родину виноваты были не только Сталин, но и легко сдавшие их по секретным ялтинским соглашениям американские и французские власти, современные французы об этом, по крайней мере, честно пишут). И речь совсем идет не о принудительном возврате, и даже не о стимулировании добровольного возврата. России бы с ближним зарубежьем разобраться. Ведь там русским гораздо хуже, чем в дальнем зарубежье. Но Россия подчас бывает очень неприветлива по отношению к русским, оказавшимся в бывших советских республиках. Многие из них уже попробовали сначала вернуться на историческую родину – в Россию. А потом почему-то повернули свои стопы в дальнее зарубежье. Не случайно, как я пишу, что они потом готовы терпеть гораздо большие лишения на Западе, чем приехавшие из России.
Если посмотреть на эмиграцию с высоты птичьего полета, то нынешняя волна русской эмиграции вызвана, на мой взгляд, двумя факторами (возможно, взаимосвязанными): "русской трагедией" (по выражению А.Зиновьева) и просто открытием границ, возможностью увидеть другую жизнь. Утечку мозгов некоторые ученые-социологи, болеющие за страну, относят к катастрофической миграции. Ведь в современной России, по данным депутата Госдумы С.Глазьева, наука получает всего 1/3 от того, что должна получать по Закону о науке. Но то, что утекают мозги, не волнует наше правительство, туда же и мои оппоненты. Видимо, логика одна и та же: пусть едут, значит, им там лучше. Не понравится – вернутся. Но ведь человек – не пешка и не перекати-поле, особенно ученый. Не жалко вам ни жен ученых, ни их детей. Они-то ведь свою судьбу не выбирали. Многие русские эмигранты сетовали и сетуют, что круг русской культуры все сужается и сужается, что забывается русский язык. Со стороны России делаются какие-то попытки разослать по посольствам русские учебники (капля в море, конечно). А мои оппоненты раздражаются: "Ой, опять про несчастных жен и детей! Ну сколько можно!. Неужели нельзя найти что-то позитивное, хотя бы в себе!" Спасибо Мистраль и Трибунэ за то, что подсказали про прекрасную отмычку от любых проблем! "И еще удивляется, что не хотят возвращаться", – резко критикует меня Chat noir. Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ. Она (то есть я, надо понимать) не только не удивляется, но и подробно пишет, почему не возвращаются. Даже страдающие на Западе. Психология эмигранта – вообще очень сложное явление. Давайте спокойно без оскорблений будем стараться понимать друг друга и поддерживать (хотя бы на расстоянии), вообще разбираться в явлении "русскоязычная эмиграция", оставлять для современников и потомков какие-то нормальные, а не агрессивные человеческие тексты на эту тему. Давайте разберемся, ради чего, собственно, люди едут во Францию и от чего бегут из России. Мы недавно в нашей русской школе читали с детьми текст "Паруса" Лермонтова (дети его, кстати, уже плохо понимают и иногда спрашивают: "А он нормальный был, этот Лермонтов?"), и мне он показался очень верным по отношению к эмигрантам. Очень возможно, что не счастья ищут во Франции и не от счастья бегут из России.
Несмотря на дефицитный бюджет, Франция и дальше будет привлекать иностранные мозги – таков замысел нынешнего правительства. Но ведь ученые из других стран, особенно из стран "социально далеких" (третий мир, Восточная Европа), должны тоже пройти через кризис идентификации. Если считается, что легко им будет вернуться, то уверены ли Вы, что так же легко они переживут повторную адаптацию – к своей же стране? А если эта страна дает науке втрое меньше, чем должна? И если ученый защищен всем делом своей жизни, где он получил признание (мировое, кстати), а его жена и дети – отнюдь нет? То есть, строго говоря, только ученый на постоянном контракте защищен делом своей жизни. А если он на временном контракте? Вас это не взволновало, уважаемые оппоненты. Также не защищен человек, приехавший во Францию по брачному каналу. Поэтому он – брачный канал – и считается (и отнюдь не только мной, любезная Бель) худшим каналом эмиграции, потому что молодожен-иностранец завязан на одном человеке, на своем супруге, от расположения которого к Вам (величина действительно непостоянная, Вы правы, Роберт и Этуаль), от его порядочности, от воспитания, от состояния его нервной системы, наконец, от его кошелька и от его желания раскошелиться, зависит Ваше пребывание во Франции.
Обозвав вторую мою статью "очередной порцией ерунды", Мистраль меня упрекнула, что не раскрыта разница между подавшими на беженца и беженцами. То есть проявила интерес в ожидании, а какую же ерунду я дальше буду писать. Поэтому еще раз отдельное спасибо всем тем, кто заходит на форум неоднократно. Хотелось бы только большей корректности в споре, а то иногда столкновения мнений напоминают "гадюшник". На самом деле, это две разных категории эмигрантов, хотя бы потому, что они имеют разные права. К первой категории относятся случаи, когда человек, оказавшийся во Франции, подает заявление с просьбой о предоставлении убежища, и если это заявление власти приняли (случаются и отказы), то оно начинает рассматриваться, просителю выдается временный, на три месяца, вид на жительство, скромное жилье (место в гостинице, в приюте, в специальном доме для беженцев) и скромное пособие. Вид на жительство может продлеваться, если ваше дело еще не рассмотрено или если вы уже получили отказ. Иногда такие дела длятся годами, люди судятся с комиссией по предоставлению статуса беженца уже за свой счет. Но они имеют тот же статус, относящийся к первой категории. Второй случай связан с той ситуацией, когда человек все же добился получения официального статуса беженца (в настоящее время удовлетворяются 6% от числа подавших заявления). Получаемое пособие существенно выше, люди и члены их семей имеют право на льготы при найме жилья, им бесплатно предоставляются хорошие курсы французского языка. Им предоставляется право на работу, карта временного пребывания во Франции (пока три раза по одному году, но законы скоро могут поменяться), затем -летняя карта резидента. Мне не вполне понятна логика Мистраль: обвиняя меня в пессимизме и нескромности, сама же она выражает еще больший пессимизм, когда речь идет о моем конкретном предложении о недвижимости. Еще раз призываю оппонентов: обсуждаем проблемы и реальные пути "расшивания" проблем или, на худой конец, просто примирения с ними, а не автора, который высунулся чуть больше остальных. Вам никто не мешает выдвигать какие-то идеи, пусть на первый взгляд и безумные, или обобщать известные только Вам факты.
Вот, например, один из вопросов, заслуживающих коллективного осмысления: конечно, нужны очень веские причины, чтобы пытаться сменить страну. Но если кому-то плохо на родине, то это не значит, что будет хорошо в эмиграции. В случае с Олей – да, именно стало хорошо. Во Франции Вы реализовали себя, Оля, и в профессиональном, и личном плане. Но ведь не всякому это удается за границей, о причинах этого мы уже говорили. Кроме того, я, например, не верю, что смена страны – это вообще такое уж легкое дело. Ведь не биороботы же мы, с легкостью меняющие место жительства. Сначала плюс на минус, потом минус на плюс. Как бы мы ни были злы на свою страну за низкий жизненный уровень, за свою неустроенность, за социальную незащищенность в ней, в эмиграции мы часто возвращаемся мыслями на родину. Проблемы ухода и возврата, построение взаимоотношений с покинутой страной и с новой страной, со своей диаспорой, наряду с проблемой выживания, являются основными для эмигранта. И не всегда и не у всех сравнения могут выстроиться только в пользу Франции. Позволю себе привести еще некоторые статистические данные, не самые свежие, но могущие быть интересными для нынешней волны эмиграции, потому что в основном не сегодня же приехали во Францию современные русские эмигранты. В канун XXI-го века население Франции могло гордиться одним из самых высоких уровней жизни на планете по классификации ООН. По показателю индекса развития человеческого потенциала (ИЧРП) Франция занимала тогда 12-е место, в то время как Россия – лишь 62-е. Кстати, сегодня в отношении России называется 60-е место. Правда, Г.Зюганов настаивает все же на цифре 62. По Франции, к сожалению, самой свежей цифры не нашла. Год назад указывали
. ИЧРП рассчитывается ежегодно с 1990 г. и используется для отражения результатов базового развития человеческого потенциала в рамках единого составного индекса, определяющего рейтинг стран. ИЧРП рассчитывается на основе трех показателей: долголетия, достигнутого уровня образования и уровня жизни (преступность, Chat noir, кстати, прямым образом в ИЧРП не входит, она только каким-то образом может повлиять на уровень долголетия). Правда, в последнее время эти показатели даже в самой Франции подвергаются сильным сомнениям, заголовки монографий и статей (в том числе и газетных) пестрят словами об упадке и регрессии в стране. Французы вообще очень самокритичны, впрочем, критически настроены они и по отношению к другим странам.
Как бы то ни было, рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Не всякий человек, конечно. Для многих жизнь на родине, а не на чужбине, не укладывается ни в какие цифровые подсчеты. Приехав в богатую страну из России, мы можем оказаться "чужими на этом празднике жизни". Умеем добиваться своих прав любой ценой, умеем требовать – может, и повезет. Каждого из нас ждет наша индивидуальная участь, а не коллективная. Я бы не судила так категорично, как это делаете Вы, Chat Noir, что преступность во Франции существенно ниже, чем в России, потому что лучше социальная защита; не согласна я с Вами и в том, что все образование во Франции бесплатно, в том числе и для иностранцев. В новом учебном году во Франции резко выросла доля школьников и лицеистов, обучающихся в частных, а не в муниципальных школах. Родители сравнили оба вида школ и сделали определенный выбор. Хорошо, что ребенок-иностранец обязан получить место в муниципальной школе, даже если находится во Франции без документов. Еще лучше, что женщину с ребенком, даже если этот ребенок не от папы-француза – Франция всегда приютит. Но мест в приютах и пособий по бедности на всех не хватает. Кто-то добился, а кто-то не смог или считает для себя унизительным... В этом отношении конкуренция во Франции тоже довольно высокая.
Что касается высшего образования, то бесплатно достается только место в университете. При современной сверхострой ситуации на рынке труда с этим дипломом нужно бегать и бегать, чтобы найти работу. Кстати, часто хоть какую бы. За Вашей головой будут бегать работодатели и Ваше будущее станет более или менее гарантированным, только если Вы учитесь или окончили так называемую высшую школу. Чтобы поступить в нее, нужно пройти огромный конкурс или заплатить серьезнейшую сумму за обучение. Часто и то и другое. Многим ли иностранцам это под силу? Медицина тоже не стопроцентно бесплатная, особенно для лиц, живущих не на пособия, а на зарплату.
Не судила бы, Chat Noir, так однозначно и относительно преступности во Франции. Статистика свидетельствует, что самый высокий уровень преступности и относительно высокие темпы ее прироста регистрируются в наиболее развитых демократических странах. В последние 40 лет ХХ-го века преступность в США увеличилась более чем в 7 раз, в Англии – в 6, во Франции – в 5. По Швеции и России эксперты приводят цифру роста в 6-7 раз, причем в России основной рост пришелся на постсоветский период. Были за это время и периоды снижения преступности, в СССР в 1986-1987 годах (период антиалкогольной кампании, которая затем была быстро свернута), во Франции в 1985-1988 годах. В предвыборных речах весны 2002 г. Жак Ширак отмечал рост преступности за год на 8%. Криминологи отмечают, что сопоставлять страны очень трудно. Несопоставимость имеется в числе индексных, то есть публично отслеживаемых преступлений, в каждой стране этот список свой. В любом случае не сбываются предсказания криминологов и социологов начала ХХ-го века, которые прогнозировали снижение преступности по мере развития культуры и экономики. Нельзя забывать и о специфически западном, особенно французском виде преступности – педофилии. Даже такую рубрику на новостных каналах ввели. Я понимаю, что перед лицом преступника ты одинаково страдаешь независимо от страны пребывания. Французы тоже жалуются на недостаток защиты от преступности. Кстати, фиктивный брак во Франции приравнивается к уголовным преступлениям, министр внутренних дел Н.Саркози предусматривает введение более жестких мер пресечения этих преступлений. Зачем же так категорично писать, что "никто с проверками не приходит и тапки не считает"? Возможно, что такие меры проводятся выборочно, особенно в отношении браков с большой разницей в возрасте, но их никто не отменял. -летнюю "карт де резиданс" становится получить сложнее, а не легче. Кстати, если ее выдают "только на основании документов", как Вы пишете, то иногда требуют присутствия мужа в префектуре и даже подтверждения свидетелей, что брак не фиктивный.
Мне хотелось и дальше продолжать диалог с оппонентами, но зашла еще раз на сайт и увидела новый не совсем корректный по тону комментарий (теперь уже не поводу моей статьи, а по поводу комментария на нее) некоей Лолы, от которого захотелось свернуть разговор. Опять типичный пример раздражения и непонимания, да еще и с применением ненормативной лексики. И опять желание ткнуть человека лицом в грязь, если он пишет о проблеме (Мари, как я понимаю, писала не только о своих проблемах). И противопоставить себя ему, и грубо проучить. Призываю Вас, дорогие читатели, особенно оппоненты, давайте так не будем! Правильно говорил на сайте К.Затулин, что мы, русские – разделенная нация, притом разделенная и в России, и за рубежом. Хотелось бы добавить: разделенная и социально, и психологически. Можно смеяться и иронизировать над страданиями других до бесконечности, но знаете, как сказал наш же русский писатель Виктор Пелевин, Россия – это такая страна, где можно обхохотаться до смерти. Видимо, это относится и к зарубежной России, и в какой-то степени и к Франции. Да, случай с Мэри Трентиньян всех всколыхнул. Поверьте, дорогие читатели, я вовсе не хочу настраивать вас всех на негативный лад, я просто говорю, что есть у эмигрантов во Франции такие проблемы. И есть еще и Проблемы. И хочется обсуждать их, хочется думать о судьбе России, самой России и зарубежной тоже. Ведь наши предки – первая пореволюционная волна эмиграции – буквально болели судьбой России. Они тоже ссорились, разбивались на кружки, но не были, мне кажется, так жестки в суждениях.
В заключение хочу сказать, как теперь принято: всем спасибо, все свободны, кроме тех, кто хочет и дальше обсуждать проблемы повседневной жизни эмигрантов – психологические, социальные и экономические. На корректные комментарии отвечу сразу, тянуть не буду. Проблемы надо решать по мере их накопления. Ставлю на обсуждение тот вопрос, который волнует многих читателей: всегда ли это хорошо – эмиграция во Францию – и почему маловероятен возврат на родину для тех, у кого жизнь во Франции не удалась?