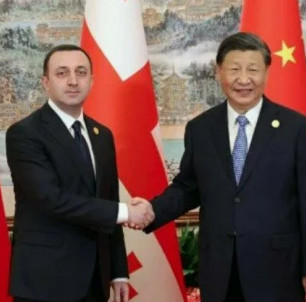В 1427 году рязанский князь Иван Федорович, князь пронский и тверской князь Борис "отдались на службу" литовскому великому князю Витовту. Правда, в скором времени тверской и рязанский князья "пристали к Москве", не найдя в Литве должной поддержки. Другим же князьям, уделы которых были присоединены к Московскому государству насильно, приходилось спасать в Литве свою жизнь. В 1485 году в Литву убежал тверской князь Михаил Борисович, удел которого захватил Иван III. В 1521 году туда же удалось бежать рязанскому князю, лишившемуся своих владений.
Кроме того, за литовскую границу бежали участники междоусобной борьбы за московский престол, боявшиеся великокняжеской расправы, а также оказавшиеся в опале великокняжеские приближенные. В 1454 году союзник Дмитрия Шемяки (ослепившего великого князя Василия Темного) можайский князь Иван Андреевич, не дожидаясь прихода московского войска, убежал в Литву. Туда же бежал и старший сын серпуховского князя Василия Ярославича (верного товарища Василия Темного), по какому-то наговору схваченного и заточенного в Вологде. В Литве при Иване III пришлось скрыться и князю верейскому с женой из-за вспышки великокняжеского гнева: Иван III хотел по случаю рождения внука подарить своей невестке жемчужное украшение, а его супруга Софья Палеолог подарила это украшение своей племяннице гречанке Марии, вышедшей замуж за верейского князя Василия Михайловича. В ярости великий князь приказал отнять у Василия все приданое его жены и хотел взять его под стражу, но тот вовремя сбежал с супругой за рубеж. Все подобные случаи бегства великие князья расценивали как измену власти, тем более, что Литва регулярно пребывала во враждебных отношениях с Московским княжеством.
Литва, выросшая как государство на русских землях, присоединившая к себе немало русских княжеств, была до поры до времени культурно близкой русским беглецам; большинство ее феодальной знати было русского происхождения и исповедовало православие. Изменение политической ситуации – рост польского влияния и насаждение католицизма – привели к переходу подручных Литве русских князей под покровительство Московского государства под предлогом гонения на православную веру. В том числе среди них были и потомки беглецов из Московской земли, первые русские реэмигранты. Поступили на службу и отдали под верховную власть московского государя свои владения внук Ивана Андреевича Можайского Семен и внук Шемяки Василий. Но память о беглецах в Литву как государственных изменниках прочно закрепилась в великокняжеском сознании. Дочь Ивана III, выданная замуж за польского короля Александра предостерегала отца: "И не радовались бы изменники, предатели ваши, которых отцы изменяли предкам нашим в Москве, а дети их делают то же в Литве. Дай Бог им, изменникам, того, что родителю нашему было от их отцов<...> Сам смотри, государь, годно ли таким верить, которые государям своим изменили..."
Процесс собирания русских земель оказался тяжелым испытанием и для формирующейся самодержавной власти, и для удельных князей. Многие из них, насильно присягнувшие московскому государю, не могли смириться со своим подчиненным положением князей служилых и решались на бегство. Так, в начале царствования Василия Ивановича в Литву бежал князь Константин Острожский, один из насильно присягнувших. Как писал Костомаров, "Острожский, хотя русский по вере и предкам, ненавидел Москву, страстно желал отомстить ей": именно он возглавлял литовское войско, разбившее московское войско под Оршей.
Кроме того, князья-пербежчики из Литвы также не избавились от "удельного" характера и конфликтовали с московской властью. Очень часто, недовольные единовластной политикой Москвы, они бежали обратно в Литву. Например, Михаил Глинский, перешедший на сторону московской власти, из-за неудовлетворенных политических амбиций написал к польскому королю Сигизмунду, принес повинную и предложил свои услуги, пообещав "подвести на погибель "московское войско". В подобной ситуации московские государи, вынужденные бороться с княжеским бегством, стали разработчиками первой эмиграционной российской политики. Известно, что отец Ивана Грозного, великий князь Василий Иванович прощал знатных лиц, обвиненных им в намерении учинить побеги; от его времени осталось несколько записей, данных князьями (Бельскими, Шуйскими, Мстиславскими, Воротынскими и другими) о том, что они не убегут из Московского государства. В случае попыток к побегу он брал с них значительные денежные пени и отдавал провинившихся на поруки другим, которые обязывались за него платить.
Иван Грозный, сын своего отца, не доверяя княжатам, также брал с них поручные записи о том, чтобы служить верно государю и его детям, не искать другого государя и не отъезжать в Литву и другие государства. Однако это не помешало бежать из государства князю А.Курбскому и другим представителям родовой знати. Кроме того, в Литву бежали также от притеснений со стороны власти и первый московский печатник Иван Федоров с Петром Мстиславцем, и исповедник еретического учения Феодосий Косой.
Добровольного выезда за рубеж на Руси в допетровские времена не существовало. В 1584 году немецкий путешественник Шлейзингер отмечал: "Если бы ныне в России нашелся кто-то, имеющий охоту посетить чужие страны, то ему бы этого не позволили, а, пожалуй, еще бы пригрозили кнутом, если бы он настаивал на выезде, желая немного осмотреть мир. Есть даже примеры, что получили кнута и были сосланы в Сибирь те люди, которые настаивали на выезде и не хотели отказаться от своего намерения". Предполагалось, что такого человека совратили, и он стал предателем или хочет отойти от религии. "А тех, кто не принадлежал к их церкви, они и не считали истинным христианином. Московское царство было затворено от свободного общения с миром из-за господства доктрины старца Филофея "Москва–Третий Рим". Оно всячески стремилось утвердить свой статус наследницы Византии, хранительницы истинного православия, и всячески оберегало умы своих подданных от "латинского" (католического) влияния. Духовенство видело в общении с латинянами-еретиками грех, воспрещаемый Священным Писанием, и власть поддерживала это мнение.
С началом XVII века русская эмиграция приобретает более сложный характер. Период Смутного времени наложил на нее свой отпечаток. Из государства бежало несколько авантюристов, вошедших в историю как самозванцы. Одному из них, Григорию Отрепьеву, крестовому дьяку Чудова монастыря, удалось поцарствовать под именем Лжедмитрия I. Другой – московский подъячий Тимошка Анкудинов в середине XVII века вместе с товарищем Конюховским убежал в Литву, а оттуда в Константинополь, где выдавал себя за сына царя Василия Шуйского. После его скитаний по Италии, Малороссии, Швеции, Голштинии, Тимошка был выдан голштинским герцогом Фридрихом и четвертован в Москве в 1653 году.
Иные случаи эмиграции были обусловлены постепенным выходом России из "затворенного" состояния, активизацией связей с Западом, под влиянием которого стала формироваться особая "порода" людей, ориентированных на европейскую культуру. При прямом или опосредованном контакте с европейской действительностью у них наступало глубокое разочарование в российских реалиях, подчас заканчивавшееся бегством. Несколько молодых дворян, направленных Борисом Годуновым учиться за рубеж, в Россию не вернулись. В 1660 году бежал за границу сын видного государственного и военного деятеля А.Л. Ордына-Нащокина, по словам историка В.О. Ключевского, "молодой человек, подававший большие надежды, которому иноземные учителя вскружили голову рассказами о Западной Европе".
Со второй половины XVII века раскол в Русской православной церкви и объявленные гонения на исповедников древлеправославия положили начало религиозной эмиграции – бегству старообрядцев из Российского государства. Эмиграция старообрядцев за границу началась вскоре после Собора 1667 года и особенно усилилась в правление царевны Софьи и при патриархе Иоакиме. Первоначальными регионами их расселения стали земли Речи Посполитой, земли балканских владений Османской империи (княжества Валахия и Молдова) – Добруджа и Буковина, где они пользовались полной свободой вероисповедания.
Маргарита Кононова (продолжение следует)
Ссылки по теме:
Эмиграционная политика российского государства. Историческая ретроспектива